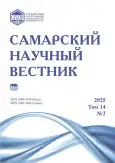Historical memory and foreign policy of Serbia in the Macedonian question at the end of the 19th – beginning of the 20th century
- Authors: Skvoznikov A.N.1
-
Affiliations:
- Samara State University of Economics
- Issue: Vol 14, No 2 (2025)
- Pages: 120-124
- Section: Historical Sciences
- URL: https://snv63.ru/2309-4370/article/view/689221
- DOI: https://doi.org/10.55355/snv2025142206
- ID: 689221
Cite item
Full Text
Abstract
The article examines the process of formation of the foreign policy doctrine of Serbia in the Balkans in the 19th century. The author comes to the conclusion that, having gained independence, the young Serbian state sought to occupy its geopolitical niche, to assert itself as an influential regional power in the Balkans. The main foreign policy task of Serbia in the second half of the 19th – early 20th centuries was the gradual reunification of the Serbian people, divided due to historical reasons, within a single national state. The implementation of this task encountered a counter movement of other Balkan peoples (Bulgarians, Greeks, Albanians), who also sought to expand their state territory. The causes, forms and methods of the struggle of the young Balkan states (Greece, Bulgaria and Serbia) for dominance in the European provinces of the weakening Ottoman Empire, in particular, in Macedonia, are revealed. In their struggle, the national elites of the Balkan states widely used the symbolic resources of the past, various forms of historical politics to consolidate national identity and justify their geopolitical aspirations in the conditions of fierce competition with neighboring states for disputed territories in the Balkans.
Full Text
Вопрос об «исторических правах» различных народов на ту или иную территорию на политической карте мира во все времена был весьма острым. Не утратил он своей актуальности и по сей день. Многие современные государства в своей внутренней и внешней политике широко применяют символические ресурсы прошлого, облекаемые в различные формы исторической политики. Политика памяти (историческая политика) используется как правило, для консолидации национальной идентичности, особенно в случае столкновения с внешними вызовами и угрозами [1]. Использование различных исторических фактов и, главное, их субъективная интерпретация в качестве политических аргументов – явление далеко не новое в практике многих государств. Различные элементы исторической политики широко встречаются в эпоху Нового времени. В нашей статье мы сосредоточили свое внимание на некоторых элементах исторической политики балканских государств в борьбе за македонские земли.
В отечественной историографии по изучаемой нами проблеме следует выделить исследования Н.С. Гусева. Автор подчеркивает, что балканские государства в проведении своей внешнеполитической линии традиционно опирались на факты средневековой истории, периодически заявляя о своих «исторических правах» на те или иные территории на Балканах. Н.С. Гусев выделяет несколько этапов развития национальной пропаганды Сербии в Македонии, которая эволюционировала под влиянием внутриполитической конъюнктуры, общественного мнения и внешнеполитической обстановки на Балканах. В частности, на первом этапе информационно-пропагандистская деятельность Сербии была сосредоточена на доказывании факта о том, что в Македонии живут сербы, а не болгары. В дальнейшем, когда стало очевидным несостоятельность подобной аргументации, ставка была сделана на утверждение о существовании отдельного македонского народа. На третьем этапе стала продвигаться идея о том, что на македонских землях проживает славянское население, у которого пока еще не сформировано четкое национальное самосознание, и соответственно, македонские славяне со временем смогут идентифицировать себя в качестве сербского этноса [2, с. 162]. Значительный интерес для нас представляют работы Я.В. Вишнякова, в которых ученый обращается к проблеме «войн памяти» между балканскими народами за античное наследие Балканского региона. Автор справедливо отмечает, что на Балканах, где государственные границы повсеместно не совпадают с ареалом проживания того или иного этноса, войны памяти становятся важным инструментом в территориальных спорах между балканскими народами. Целью такой деятельности является укрепление национальной идентичности, с одной стороны, и целенаправленное стирание из памяти, предание забвению исторической роли «чужого» народа, некогда проживавшего на данной территории и замалчивание о историческом периоде вынужденного с ним соседства, с другой стороны [3]. В работе П.А. Искендерова «Сербия: в поисках внешней опоры (1878–1903 гг.)» анализируется внешняя политика Сербии в период после Берлинского конгресса 1878 г., когда страна получила независимость, но столкнулась с необходимостью балансировать между интересами великих держав – России, Австро-Венгрии и других. Автор подчеркивает, что поиск внешней опоры был вынужденной мерой, обусловленной геополитическим положением Сербии и необходимостью противостоять экспансии Австро-Венгрии. К 1903 г. Сербия, несмотря на ограниченные ресурсы, стала важным игроком на Балканах, но её внешняя политика оставалась зависимой от баланса сил между великими державами. Усиление Австро-Венгрии и рост напряжённости в регионе сделали Сербию «пороховым погребом Европы», что привело к Первой мировой войне [4]. Существенный вклад в изучение сербской внешнеполитической доктрины внес А.Л. Шемякин. В своей монографии автор подробно анализирует взгляды Николы Пашича на пути построения сербского национального государства и модернизацию сербского общества [5]. Среди авторитетных исследований по изучаемой проблеме следует выделить работы А.В. Карасева, в которых исследуется взаимосвязь сербской национальной идеи и внешнеполитической стратегии княжества в 1860–1870-х годах. Автор акцентирует внимание на программе Илии Гарашанина «Начертание», которая стала основой для объединения югославянских земель под эгидой Сербии. А.В. Карасев подчёркивает, что национальная идея стала движущей силой сербской дипломатии, однако её реализация зависела от баланса сил великих держав и внутренних противоречий на Балканах [6].
Следует вспомнить, что в XIX веке в европейских областях Османской империи начинается процесс национального возрождения у народов, завоеванных в свое время турками-османами, и проживающих на территории Османской империи. В последней четверти XIX – начале XX в. процесс создания национальных государств и освобождения балканских народов от османского господства перешел в завершающую стадию. Ярким проявлением системного кризиса Османской империи становится постепенное ослабление контроля Порты над подвластными народами и сокращение государственной территории страны. В последней четверти XIX в. наиболее острое звучание в Османской империи приобрел национальный вопрос. Многие народы, проживавшие на ее территории (славяне, албанцы, армяне, арабы), стремились выйти из многовекового турецкого подчинения и создать собственные национальные государства. В результате поражения в войне с Россией в 1877–1878 гг. Турция потеряла значительную часть своих владений на Балканах, где были образованы независимые государства – Сербия, Черногория, Румыния, а также автономное Болгарское княжество, которые стремились к расширению своих границ как за счет соседних государств, так и путем аннексии европейских провинций, оставшихся еще в составе Османской империи. События последней четверти XIX в. продемонстрировали определенную закономерность – как только новое государство на Балканах получало независимость от Османской империи, оно сразу направляло свои внешнеполитические усилия на борьбу со своими балканскими соседями за контроль над территорией. Причем внешнеполитические доктрины балканских государств заведомо носили взаимоисключающий характер, что не предполагало мирное урегулирование территориальных споров. При таком раскладе особое значение приобретала информационно-пропагандистская деятельность внешнеполитических ведомств и иных учреждений соответствующих стран, нацеленная на формирование представлений о правах того или иного государства на спорные земли [2, с. 149].
Камнем преткновения в отношениях между балканскими государствами становились территории с неоднородным этническим составом, одной из которых была Македония – область, население которой являло собой широкий спектр религий и этносов, здесь испокон веков проживали греки, славяне, турки, албанцы и другие народы.
Македонский вопрос становится важнейшим аспектом внешнеполитической повестки балканских государств в период Восточного кризиса 1875–1878 гг. Следует отметить, что по условиям Сан-Стефанского мирного договора, подписанного по итогам русско-турецкой войны 1877–1878 гг., создавалось автономное Болгарское княжество, в состав которого включалась Македония. Однако под жестким давлением Великобритании и Австро-Венгрии, которые рассматривали Болгарию в качестве сателлита России и не желали усиления последней на Балканах, положения Сан-Стефанского договора были пересмотрены на Берлинском конгрессе 1878 г. По условиям Берлинского трактата македонские земли оставались в составе Османской империи. Итоги Берлинского конгресса не устроили не одно из балканских государств. Болгарский народ чувствовал себя обделенным, поскольку его заветная мечта – объединение всех болгар в рамках одного государства была уже так близка, но победа буквально ускользнула из рук в результате пересмотра Сан-Стефанского договора. После завершения Восточного кризиса 1875–1878 гг. в борьбу за македонские земли включаются и другие балканские народы. Для Сербии итоги Берлинского конгресса были более благоприятными по сравнению с Болгарией. Помимо окончательного обретения суверенитета и официального признания в качестве субъекта международных отношений государственная территория Сербии была увеличена почти на 11 тыс. км², а население – почти на 300 тыс. человек за счет присоединения к ней четырех новых округов: Нишского, Пиротского, Враньского и Топлицкого. Вместе с тем в результате оккупации Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины Сербия оказалась отрезанной от моря, что усиливало зависимость сербской аграрной экономики (в частности продукции животноводства) от Австро-Венгрии, которая являлась посредником при экспорте сербских товаров в другие страны. Отсутствие собственных морских портов ставило перед Сербским государством важную геополитическую задачу – продвижение к Адриатическому морю через Старую Сербию (Косово), а также к Эгейскому морю через Македонию [4, с. 88]. Таким образом, македонский вопрос становится важнейшим аспектом внешнеполитической повестки сербского государства. Новым геополитическим соперником Сербии вместо ослабевшей Османской империи стала Австро-Венгрия, территориальная экспансия которой стала главным препятствием в реализации национальной программы Сербии по объединению всех соотечественников под крышей одного государства.
Разновекторные и взаимоисключающие внешнеполитические интересы между Австро-Венгрией и Сербией привели к временному сближению между двумя государствами, что выразилось в заключении в 1881 году тайной конвенции о разграничении сфер влияния на Балканах. Австро-Венгрия признавала право Сербии на расширение государственных границ за счёт турецких территорий в Старой Сербии и Центральной Македонии. Сербия, в свою очередь, брала на себя обязательство не заключать политических договоров с иностранными государствами без предварительного согласия Австро-Венгрии, а также признавала Боснию, Герцеговину и Новипазарский санджак сферой исключительного влияния Австро-Венгрии [6, с. 169].
Таким образом, Македония в последней четвери XIX века становится ареной политических схваток и стычек повстанческих отрядов Греции, Болгарии и Сербии. Балканские государства использовали различные методы – политические, информационно-пропагандистские, военно-диверсионные. Особое значение приобретала внешнеполитическая пропаганда, осуществляемая в том числе через образовательные учреждения, церковь, печать, нацеленная на формирование представлений о правах того или иного государства на спорные земли Одним из аргументов противоборствующих государств, становится историческое право на македонские земли. Под историческим правом здесь следует понимать применение исторических сведений с целью доказывания факта исконного (ранее остальных народов) проживания определенного этноса на данной территории. Следует отметить, что балканские государства при разработке и реализации своих внешнеполитических программ все активнее опираются на политику коллективной исторической памяти с целью обосновать свои территориальные притязания на македонские земли. Для греческой национальной элиты Македония ассоциировалась с великой империей Александра Македонского. Поэтому любые попытки других народов «прибрать к рукам» ядро эллинской цивилизации, их историческое наследие, греками воспринимались очень болезненно Сербия и Болгария также использовали исторические факты в качестве аргументов в политической борьбе.
Главным аргументом Сербии в обосновании своих притязаний на Македонию являлся исторический факт о том, что македонские земли на протяжении нескольких десятилетий входили в состав средневековой державы сербского короля Стефана Душана Неманя (1331–1355). Его двор располагался в Скопье и греческом Серре. В 1346 г. Скопье в Македонии стал столицей сербо-греческого царства, а Стефан Душан был провозглашён «царём сербов и греков». В дальнейшем после распада Сербского царства под натиском османов в конце XIV в., Македония перешла в руки турок именно из-под сербского владычества. Таким образом, сербы рассматривали македонские земли как осколок некогда мощного сербского средневекового царства, который был отторгнут превосходящими силами врага (турками) насильственным путем, что могло рассматриваться для обоснования предстоящей сербской экспансии на Балканах и возвращение утраченных «исконных» земель [7, с. 740]. Таким образом, сербское средневековое царство Стефана Душана рассматривалось интеллектуальными и военно-политическими элитами как геополитический эталон для сербского народа. Расширение границ Сербии до образца средневекового царства Стефана Душана позволило бы Сербии претендовать на статус великой державы на Балканах, с претензией на роль объединителя югославянских народов.
Долгосрочную внешнеполитическую программу, которую должна была реализовать Сербия в XIX веке, сформулировал известный политический и государственный деятель Илия Гарашанин в своей работе «Начертание». Суть программы заключалась в том, что сербское государство станет центром объединения югославянских народов (сербов, хорватов, боснийцев, черногорцев), освободившихся от османского владычества [6, с. 196]. В 1866–1867 годах, когда И. Гарашанин являлся министром иностранных дел, Сербия заключила несколько соглашений с Румынией, Черногорией и Грецией, создав таким образом Балканский союз, существовавший в 1866–1868 гг. и направленный на борьбу с Османской империей. Сербское руководство ясно понимало, что объединение усилий балканских народов – залог успеха в борьбе с таким сильным противником как Османская Порта. Кроме того, ведущая роль Сербии в Балканском союзе давала ей важное преимущество при последующем разделе завоёванных территорий на Балканах.
Таким образом в середине 1860-х годов Сербия включилась в борьбу за установление своего влияния в Македонии. Сербская дипломатия начинает активно искать себе союзников в предстоящей борьбе за раздел европейских территорий Османской империи. Таким союзником стала Греция. Сближение двух государств произошло в условиях стремления Греции и Сербии расширить свои территории на Балканах. Главным препятствием в этом процессе были Турция, Болгария и Австро-Венгрия, которые в свою очередь не желали создания на Балканах «Великой Греции» и «Великой Сербии». В итоге Сербия и Греция заключили союзный договор в августе 1867 г. и военную конвенцию в феврале 1868 г. Обе стороны обязывались вести борьбу с Османской империей до полного освобождения всех христианских народов в Европейской Турции и на островах Архипелага. В случае невозможности достижения этой конечной цели союзники должны были добиться присоединения Фессалии и Эпира с Критом к Греции, а Боснии и Герцеговины – к Сербии. В ходе переговоров накануне подписания договора между сторонами наметились определенные разногласия, связанные с македонским вопросом. Сербская дипломатия стремилась к тому, чтобы юридически зафиксировать в соглашении с Грецией разделение Македонии на сферы влияния, в частности добиться от греков признания права Сербии на часть Македонии (Старую Сербию). Греческая сторона в свою очередь полагала, что обсуждать вопрос о разделе Македонии преждевременно, предложив вернуться к решению македонского вопроса после освобождения Македонии от турецкой власти. Греки, явно осознавая слабость сербской позиции в Македонии, выступили за свободное самоопределение населения Македонии в вопросе о выборе государства, в котором они захотят проживать [8, с. 125]. Греческая дипломатия прекрасно понимала, что значительная часть Македонии может оказаться в составе Греческого королевства «автоматически» без всякой помощи со стороны Сербии. Это было связано с тем, что Греция имела важное преимущество в Македонии – вплоть до открытия Болгарского экзархата 1870 года в Македонии действовали только греческие православные храмы, где служили греческие священники и литургии шли на греческом языке. Значительная часть населения Македонии, в том числе этнические болгары, посещали греческие храмы (поскольку других не было), обучали своих детей в греческих школах. Таким образом, Греция рассчитывала на то, что многолетняя политика эллинизации в Македонии посредством информационно-пропагандистской и просветительской работы принесет свои плоды, и большая часть Македонии в будущем войдет в состав Греческого королевства. Следует отметить, что Сербско-греческий договор и военная конвенция так и остались на бумаге. Стороны так и не приступили к совместным военным действиям против Турции. Каждая из сторон сосредоточилась на единоличных действиях по реализации своей внешнеполитической программы.
В 1868 г. в Сербии был создан специальный «Комитет школ и учителей в Старой Сербии и Македонии», деятельность которого была сосредоточена в северо-западных районах Македонии, прежде всего в Косовском вилайете. В 1886 году было учреждено «Общество Святого Саввы, которое занималось просветительской работой, в частности издавало и распространяло в Македонии сербские учебники и организовало школьное обучение для выходцев из Македонии на сербском языке [9, с. 301].
В 1887 г. при Министерстве просвещения Сербии было создано «Отделение школ и церквей вне Сербии», называемое также «Политико-просветительским отделением» при МИД, ставшее вскоре руководящим органом всей сербской национальной пропаганды в Македонии. Главными ее проводниками стали сербские консульства, открытые в 1886 г. в Скопье (Ускюбе) и в Солуни, а в 1889 г. в Битоли и Приштине [10, с. 323].
В 1889 г. премьер-министр Сербии Н. Пашич во время своего визита в Болгарию предложил болгарскому премьеру Станчеву идею балканского союза с антитурецкой направленностью на основе предварительного соглашения о разделе Македонии. Болгарское правительство отказалось вести переговоры на таких условиях, поскольку считало Македонию болгарской землей, которая не подлежит разделу [11, с. 8].
О том, насколько сильны были сербские притязания на македонские земли, говорит следующий факт. В апреле 1901 г. король Сербии Александр Обренович в частной беседе с российским публицистом А.В. Амфитеатровым заявил, что Македония наряду со Старой Сербией (Косово и Метохия) является исконной землей сербского народа, которую Сербия никому не уступит [12, с. 456]. При этом сербский генеральный консул в Салониках Ненадович в доверительной беседе с российским генконсулом А.А. Гирсом в декабре 1902 г. признавал, что «хотя в Солуни и ряде других пунктов Солунского вилайета открыты сербские гимназии и школы, настоящих сербов там не имеется» [13, л. 117–117 об.].
Центральное правительство и местные турецкие власти Македонии для ослабления позиций болгар, в которых они видели основных своих противников, действуя по принципу «разделяй и властвуй», стали в противовес им поддерживать в Македонии влияние сербского патриарха и деятельность сербских школ. В результате северо-восток Македонии стал главным полем столкновения болгарской и сербской националистической пропаганды.
Таким образом, турецкие власти, умело используя в своих интересах борьбу балканских государств, добивались одновременно самоистребления христиан в Македонии.
Жестоким финалом многолетней борьбы за Македонию стали Балканские войны 1912–1913 гг., в результате которых македонский вопрос – этот гордиев узел Балкан – был разрублен посредством раздела территории Македонии на три части между Грецией, Сербией и Болгарией. В 1912 г. северная Македония была завоевана сербами. Сербские власти сразу же объявили македонцев «настоящими сербами», а Македонию – южной Сербией, закрыли все болгарские школы и уволили учителей, изгнали болгарских священников и епископов и назначили на их места священников Сербской православной церкви, запретили болгарскую прессу, болгарские имена и фамилии. То же самое происходило в южной Македонии, завоеванной Грецией, где македонцев старались ассимилировать в греков, закрыв болгарские школы и церкви. В ответ на репрессии македонцы в 1913 г. организовали два восстания (Тиквешвское в июне и Охридско-Дебарское в сентябре–октябре совместно с албанцами), жестоко подавленные сербскими войсками под руководством Василие Трбича и Йована Бабунского. В одном только Тиквешском восстании, по данным Специальной международной комиссии, состоявшей из европейских ученых, погибло более тысячи человек, из них около 200 повстанцев, а большинство – мирное население. По словам российского политического деятеля и историка П.Н. Милюкова, сербская государственная пропаганда утверждала, что македонские болгары – на самом деле сербы, которых ВМОРО с помощью террора заставила стать болгарами. Более двух тысяч болгарских учителей, священников и других выдающихся болгар были брошены в тюрьмы, а многие другие были вынуждены под давлением отречься от болгарской идентичности и объявить себя сербами [14, с. 37].
10 августа 1913 года был подписан Бухарестский мирный договор, по которому Сербия и Греция получили всю Македонию, кроме Пиринской части. Сербии отошла Вардарская Македония, а Греция получила Эгейскую Македонию с городами Салоники и Кавала.
Геополитическое развитие сербского государства после 1878 года вплоть до Первой мировой войны, пошло в другом направлении, нежели это было сформулировано в «Начертании» И. Гарашанина. После Балканских войн в состав сербского государства вошли не Черногория и Босния и Герцеговина, как это планировалось сербскими политиками в середине XIX века, а Косово и Вардарская Македония. В свою очередь Болгария, проигравшая во Второй Балканской войне и потерявшая значительную часть Македонии, жаждала реванша, что стало одним из ключевых факторов вступления Болгарии в Первую мировую войну на стороне держав Тройственного союза. Таким образом, территориальные противоречия балканских государств (Болгарии, Греции, Сербии, Австро-Венгрии) по македонскому вопросу среди прочих факторов сыграли решающую роль в расстановке сил в Европе перед началом Первой мировой войны.
В заключение следует отметить, что важным элементом исторической политики балканских государств в том числе Сербии в рассматриваемый нами период, становится поиск и эксплуатация героического прошлого, обращение к образам древних государств эпохи Античности и Средневековья, и как следствие, формирование собственной мифологизированной истории с целью национальной консолидации и мобилизации нации для противостояния с другими народами.
About the authors
Alexander Nikolaevich Skvoznikov
Samara State University of Economics
Author for correspondence.
Email: skvoznikov2003@mail.ru
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor at the Philosophy and History Department
Russian Federation, SamaraReferences
- Кирчанов М.В. Проблемы Македонской Православной Церкви в исторической политике современной Сербии // Via in tempore. История. Политология. 2023. Т. 50, № 3. С. 652–661. doi: 10.52575/2687-0967-2023-50-3-652661.
- Гусев Н.С. Сербская и болгарская пропаганда по македонскому вопросу в России в конце XIX – начале XX вв. // Славяне и Россия: Балканы в вихре национально-освободительных движений (к 200-летию начала Греческой революции 1821–1829 гг.): колл. монография / отв. ред. С.И. Данченко. М.: Институт славяноведения РАН, 2022. С. 149–169. doi: 10.31168/7576-0478-7.8.
- Вишняков Я.В. «Политическая Античность» на постъюгославском пространстве // Новая и новейшая история. 2022. № 4. С. 120–134. doi: 10.31857/s0130386 40021035-6.
- Искендеров П.А. Сербия: в поисках внешней опоры (1878–1903 гг.) // История Балкан. На переломе эпох (1878–1914 гг.) / отв. ред. К.В. Никифоров. М.: Институт славяноведения РАН, 2017. С. 87–109.
- Шемякин А.Л. Идеология Николы Пашича. Формирование и эволюция (1868–1891). М.: Индрик, 1998. 448 с.
- Карасев А.В. Сербская национальная идея и внешняя политика Сербии в 60-х – 70-х гг. XIX века // Славянский мир в третьем тысячелетии. 2008. № 3. С. 194–208.
- Гусев Н.С. Македонский вопрос в освещении сербской и болгарской пропаганды в России в конце XIX – начале XX века // Актуальные проблемы теории и истории искусства. 2020. № 10. С. 740–754. doi: 10.18688/aa 200-7-70.
- Гкиуртзидис А.С. Греко-сербское соглашение 1867 года и роль российской дипломатии // Славяноведение. 2021. № 5. С. 125–137. doi: 10.31857/s0869544x0016719-3.
- Ямбаев М.Л. Македония в 1878–1912 гг. // В «пороховом погребе Европы». 1878–1914 гг. М.: Индрик, 2003. С. 297–321.
- Косик В.И. Македония – споры, соглашения, войны // На путях к Югославии: за и против. Очерки истории национальных идеологий югославянских народов. Конец XVIII – начало XX вв. / отв. ред. И.В. Чуркина. М.: Индрик, 1997. С. 318–340.
- Британски дипломатически документи по българския национален въпрос. Т. 1: 1878–1893. София, 1993. 380 с.
- Амфитеатров А.В. В моих скитаниях. Балканские впечатления. СПб., 1903. С. 81–244 // Русские о Сербии и сербах. Т. 1: Письма, статьи, мемуары / сост. А.Л. Шемякин. СПб.: Алетейя, 2006. С. 448–461.
- Посольство в Константинополе // Архив внешней политики Российской империи. Ф. 180. Оп. 517/2. Д. 2298.
- Ходунов А.С. Влияние государственной политики на этническую идентичность македонских славян: конец XIX – вторая половина XX вв. // Imagines Mundi: Альманах исследований всеобщей истории XVI–XX вв. 2023. Т. 13, № 4. С. 37–56.
Supplementary files