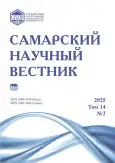Eastern contacts of the population of the Kostroma Volga region in the early Iron Age – Middle Ages according to archaeological materials
- Authors: Baranov V.S.1, Novikov A.V.1,2, Novikova O.V.2
-
Affiliations:
- Khalikov Institute of Archaeology of the Tatarstan Academy of Sciences
- Kostroma Archaeological Expedition
- Issue: Vol 14, No 2 (2025)
- Pages: 100-112
- Section: Historical Sciences
- URL: https://snv63.ru/2309-4370/article/view/689218
- DOI: https://doi.org/10.55355/snv2025142204
- ID: 689218
Cite item
Full Text
Abstract
The article is devoted to the analysis of some groups of archaeological materials obtained in the territory of the Kostroma Volga region and the city of Kostroma, which have an eastern origin and determine the contacts of the region with the regions of the Middle Volga, Kama and Vetluzhye. The chronological range of the existence of these materials suggests the presence of close interactions already in the Early Iron Age and, undoubtedly, in the Middle Ages. Archaeological recording of such cultural contacts allows us to obtain a more detailed and reliable picture of the course of socio-economic, historical-cultural and ethnocultural processes in the territory of the Kostroma Region. The work considers the significance of the region as a kind of contact zone, where in the Early Iron Age there was cultural and technological interaction between representatives of the two largest cultural communities of this era – the Ananyino historical and cultural region (AHCR) and the bearers of the mesh ceramic traditions of the «Upper Volga types». For the Middle Ages, the composition of archaeological finds (fragments of red clay and kashin dishes, coins, iron objects, etc.) is analyzed, which can characterize the probable trade and economic contacts of the Kostroma Volga region with the Volga Bulgaria and the Golden Horde, and the plot of the possible settlement of the Volga Bulgarians on the territory of the region in the pre-Mongol period is also touched upon.
Full Text
Изучение археологических материалов, полученных к настоящему времени на территории Костромского Поволжья, заставляет рассматривать появление и бытование в регионе восточного компонента не только как социальный и этнографический феномен, берущий начало в событиях рубежа позднего Средневековья – Нового времени, но имеющий более глубокие исторические основания. Рассматривая факт административного перемещения больших групп населения как одну из распространенных политических практик любой эпохи (вплоть до современности), не следует забывать, что она выражается в форме миграционного процесса, следы которого остаются в явлениях материальной и духовной культуры той территории, куда направлен вектор данного миграционного воздействия. Определенная степень открытости региона, хозяйственно-экономическая, природно-географическая, демографическая и культурная предрасположенность его к восприятию данного рода импульсов, несомненно, может являться одними из тех факторов, которые могут стать причиной своеобразного «врастания» пришлых групп населения в органическую ткань территории, благоприятных контактов и процессов метисации с местным населением, или, напротив, отторжения, изоляции и, в конечном итоге, реэмиграции.
Целью данного исследования является обобщение археологических материалов, относящихся к раннему железному веку – средневековью и объединенных восточным вектором контактов населения Костромского Поволжья. Данные находки демонстрируют более полную картину регионального развития и направления культурных связей региона. Для определения географических границ исследования авторы воспользовались термином «Костромское Поволжье», неоднократно примененным в литературе, посвященной археологии и истории Костромского края, понимая под ним прежде всего ту часть территории лесного Заволжья, которая ограничена современными границами Костромской области.
Древности Костромского Поволжья, культура которого по весьма точному определению Е.А. Рябинина, изучавшего курганные древности края эпохи средневековья, характеризуется как «яркая и крайне пестрая по слагаемым элементам…, где переплелись племенные особенности местных «чудских» образований и традиции разных потоков славянских поселенцев…» [1, с. 3], несомненно, следует рассматривать в контексте сопоставления с окружающими территориями, последовательно выявляя и определяя черты их сходства и различия. Характер этих контактов, их направление и культурная окрашенность в конечном счете и должны определять своеобразие и археологических памятников, и всего региона в целом на различных хронологических отрезках его исторического развития. В этом отношении восточные и юго-восточные связи региона, несомненно, могут быть расценены как одни из важнейших культуроопределяющих направлений, влияющих на облик культуры Костромского Поволжья в целом.
Особый интерес представляют разного рода контакты с регионами Среднего Поволжья, Волго-Камья, Верхнего Прикамья, бассейна рек Вятки и Ветлуги, ставшие одними из важнейших для прямого или опосредованного проникновения в Костромское Поволжье элементов восточной культуры и, вероятно, связанного с ними населения.
Возможность для этого, несмотря на отнесение территории края к пограничью смешанных лесов и таежной зоны, большей частью к южной тайге, что, несомненно, должно было затруднять передвижения и контакты, определялось наличием многочисленных водных магистралей, в том числе Волги и ее притоков, близостью бассейнов рек Сухоны и Вычегды и др., позволяющих интегрировать регион в общие восточно-европейские и евразийские коммуникации.
Значение Костромского Поволжья как своеобразной контактной зоны или территории транзита может быть прослежено уже со времен раннего железного века, когда здесь происходит взаимодействие представителей двух крупнейших культурных общностей данной эпохи – ананьинской историко-культурной области (АКИО) и носителей сетчатых керамических традиций «верхневолжских типов». В VI в. до н.э. на берегах Верхней Волги появляется население вятско-ветлужской культуры АКИО, культурный импульс которого на западе региона фиксируется в бассейнах рек Мологи и Шексны и выявлен на целом ряде костромских памятников раннего железного века [2; 3] (рис. 1; рис. 2: 1).
Рисунок 1 – Культурная ситуация на Верхней Волге в VI–III вв. до н.э. Локальные культурные образования с гибридными типами керамики и сопредельные древности (по А.В. Новиков; 2022). А – культурное пространство с керамикой гибридных типов и ВВК АКИО; Б – ареал поселений с керамикой ВВК АКИО, сетчатой и гибридной «типа Ватажка»; В – близкие культурные образования с керамикой гибридных типов (ВВК АКИО с носителями традиций сетчатой, подштрихованной и заглаженной керамики). Регион Белозерья и Верхней Сухоны; Г – позднекаргопольские древности, круг культур с ананьинскими элементами; Д – территории, занятые носителями дьяковских культурных традиций; Е – поселения с сетчатой и заглаженной керамикой позднеакозинского и постакозинского времени; Ж – поселения Верхней Волги с сетчатой керамикой, керамикой ВВК АКИО и гибридных типов (1 – Серюпитинское городище; 2 – Пеньковское городище; 3 – Минское городище; 4 – городище в г. Костроме; 5 – поселение Ватажка; 6 – поселение Шунга; 7 – поселение Хреново; 8 – поселение Станок I; 9 – поселение Станок II; 10 – поселение Борань; 11 – поселение Некрасовское; 12 – поселение Медведки II (Шача); 13 – городище Унорож; 14 – городище Брюхово; 15 – поселение Быки (Пуп); 16 – поселение Вознесенское II; 17 – поселение Умиленье; 18 – поселение Челсма; 19 – городище Городок; 20 – городище у Калязина; 21 – поселение Нифантово II; 22 – Череповецкое городище; 23 – городище Бежецк; 24 – городище Еськи; 25 – поселение «Дом охотника 1»; 26 – поселение Усть-Белая; 27 – поселение Куреваниха XIII; 28 – поселение Нифантово III; 29 – поселение Устьинское); З – ряд поселений с сетчатой керамикой бассейна рр. Суды и Шексны (I – Никольское XV, II – Ягорба 16, III – Ягорба, 25, IV – Ягорба 26); И – участок восточной границы распространения памятников дьяковской культуры (по И.Г. Розенфельдт, 1974 и И.В. Ислановой, 2002); К – участок восточной границы распространения памятников дьяковской культуры (по М.Г. Гусакову, 2007); Л – участок восточной границы распространения памятников дьяковской культуры (по К.А. Смирнову, 1974)
Рисунок 2 – Находки раннего железного века: 1 – фрагмент сосуда вятско-ветлужской культуры АКИО; 2 – фрагмент сетчатой керамики «верхневолжских типов»; 3 – фрагмент гибридной керамики; 4 – бронзовый гребень; 5 – глиняная литейная форма (из собрания фонда «Археология», ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»)
Эти контакты стали основанием для глубокой социокультурной трансформации в Верхневолжском регионе, завершившейся к V в. до н.э. В результате сформировалось население, сочетающее в своей материальной культуре местные (сетчатые) и ананьинские черты. Наступившие изменения выразились появлением на поселениях своеобразной гибридной посуды, несущей традиции обеих общностей, бытовавшей вплоть до III/II в. до н.э. [2, с. 382–405] (рис. 2: 1–3). Взаимодействие жителей Костромского региона с представителями культурных образований Волго-Камья документирует и ряд индивидуальных предметов, связанных с АКИО. Например, глиняная литейная форма для отливки кельта акозинско-меларского типа из поселения Ватажка [3, с. 77] и гребень из цветного металла, украшенный редуцированными изображениями головок лошади из городища Унорож [4, с. 146] (рис. 2: 4, 5).
Активизация изучения археологических памятников раннего средневековья на территории Костромской области в 80-ее гг. XX в. позволила получить свидетельства восточных контактов жителей региона уже со второй половины I тыс. н.э. Подтверждением этому являются материалы Поповского (Ухтубужского) городища, расположенного у д. Попово в Мантуровском районе. Вещевой комплекс этого поселения, датируемого VII, IX вв. [5, с. 8], кроме несомненного доминирования волжско-финских традиций, имеет прикамские черты, наиболее ярко выраженные в керамическом комплексе, который характеризуется близостью с материалами ломоватовской и родановской культур Прикамья и бассейна р. Чепцы [6]. Через Прикамье на городище попала расписная сердоликовая бусина VII в. [7, с. 251], аналоги которой мы можем увидеть в материалах могильников неволинской культуры [8]. Бусы из сердолика с подобным орнаментом изготавливались в Индии с энеолитических времен вплоть до XIX в. [9, с. 32].
При изучении культурных отложений IX–X вв. городища Унорож – центрального поселения локальной финно-угорской группы, обитавшей в районе будущего города Галича Мерьского, были найдены многочисленные подтверждения включения поселения в систему международных торговых связей, основанных, прежде всего, на тройственном обмене и обороте пушнины, восточного серебра и бус [10]. Восточные монеты, представительная коллекция стеклянных бус и бисера IX–X вв., кости бобра и амулеты, изготовленные из бобровых таранных костей, найденные на территории городища, недвусмысленно свидетельствуют об ориентации экономики Унорожа на промысловую добычу бобра и сбыт данной продукции [11] (рис. 3: 1, 2, 4). По мнению Е.А. Рябинина, достаточно четко прослеживается восточное направление связей унорожской группы населения с Ветлужско-Вятским междуречьем, прежде всего с бассейном р. Чепцы, осуществляемое через Сухоно-Вычегодский торговый путь и сопутствующую ему систему многочисленных волоков, позволяющих легко проникать к югу от магистральной трассы, в район Галичского озера и по рекам Юг и Кострома – в область Костромского Поволжья [12, с. 162]. Е.И. Горюнова, уделявшая большое внимание истокам связей костромской мери с культурными традициями Волго-Камья, считала округу Галичского озера местом международной пушной торговли с булгарами, а еще раньше – с приуральскими племенами [13, с. 70–78].
Рисунок 3 – Находки из городища Унорож (работы Костромской археологической экспедиции): 1 – амулет-подвеска их таранной кости бобра (IX–X вв.); 2 – образцы стеклянного бисера (IX–X вв.); 3 – джучидская монета 1358 г.; 4 – дирхем (конец X – начало XI вв.)
К предметам восточного импорта, поступавшим на территорию края в период древнерусского освоения конца XI–XIII вв., следует отнести бусы из сердолика и горного хрусталя, происходящие из курганных комплексов (известно 52 экземпляра из 23 погребений) [1, с. 63]. По мнению М.Д. Полубояриновой, «через болгар на запад и северо-запад шли восточные серебряные монеты, бусы из сердолика, горного хрусталя и других полудрагоценных камней, изготовленные ремесленниками Средней Азии и Индии, раковины каури с берегов Индийского океана, иранская поливная керамика» [14, с. 117].
Исследования исторического культурного слоя г. Костромы начались в 1951 г. (М.В. Фехнер). Систематические раскопки стали проводиться с 1989 г. в рамках охранных работ сначала археологической экспедицией Марийского университета (Ю.А. Зеленеев), а затем – Костромской экспедицией Государственного научно-производственного центра по сохранению, реставрации и использованию памятников Костромской области (С.И. Алексеев) и Областного государственного учреждения «Наследие» (А.В. Новиков), позволили собрать сведения о восточном импорте второй половины XIII–XIV вв. [15, с. 202, 226]. На территории исторического центра г. Костромы в настоящее время известен целый ряд местонахождений данных предметов. Среди них фрагменты гончарной красноглиняной лощеной керамики, которую можно идентифицировать с ремесленной посудой общеболгарского типа (в первую очередь тарной); обломки красноглиняной нелощеной посуды, близкой по облику керамике из золотоордынских городов Нижнего Поволжья. Известны находки фрагментов кашинной столовой посуды с бирюзовой и ультрамариновой глазурью и подглазурной росписью, дужки медного котла, сердоликовой бусины XIII – начала XIV вв. Большинство из этих предметов найдены в составе инвентаря жилых и хозяйственных комплексов городской застройки [16, с. 73–74; 17, с. 31–35].
Один из фрагментов кашинной керамики с рельефной подглазурной полихромной росписью полностью аналогичен золотоордынским чашам второй половины XIII–XIV в. [18, с. 7, рис. 3]. Он расписан с внешней стороны орнаментом из лепестков лотоса, с внутренней – эпиграфическим орнаментом и стилизованными изображением рыб и восьмилепестковой розетки. Следует отметить, в ряде случаев, корреляцию поливной кашинной посуды с находками ювелирного инструментария и стеклянными браслетами различных типов.
Важным источником для определения облика материальной культуры населения являются керамические изделия. К настоящему времени в результате многолетних исследований исторического культурного слоя г. Костромы накоплен значительный керамический материал XII–XVII вв. Эти комплексы включают в себя многочисленные фрагменты тарной, столовой и кухонной посуды, характерной в первую очередь для керамического производства древнерусского населения Костромского края. С.И. Алексеевым была разработана типология этой керамики, основанная на классификационной схеме новгородской посуды [19].
Вместе с тем среди прочего керамического материала, найденного в Костроме, можно выделить хотя и немногочисленную, но довольно заметную группу гончарной керамики, существенно отличающуюся по составу формовочной массы, примесей, характеру формовки, обработки поверхности и обжига. Это красноглиняная гончарная посуда, выполненная из ожелезенных глин, с минимальным количеством видимых примесей в формовочной массе, с внешней стороны часто имеющая лощение. Черепок после обжига характеризуется твердостью и звонкостью. Цвет варьируется от желтого до красного, темно-коричневого и бурого. Морфологически подобная керамика сходна с посудой, производимой в ремесленных центрах Волжской Болгарии, золотоордынских городов Средней и Нижней Волги. Отмечая в костромском керамическом материале редкие находки красноглиняной керамики высокого качества с линейно-волнистым орнаментом, С.И. Алексеев относит их к слоям второй половины XIII–XIV в., сопоставляя с посудой золотоордынского производства, вместе с тем указывая на болгарские традиции в ее изготовлении [15, с. 226].
Находки керамики на территории Древней Руси, которые можно идентифицировать с болгарской и золотоордынской неполивной посудой, были проанализированы и систематизированы сначала М.Д. Полубояриновой [14, с. 121], а затем В.Ю. Ковалем, в монографии которого зафиксировано более 70 местонахождений неполивной посуды южных и восточных истоков [20, с. 138–139, 145–149].
Выделение неполивной посуды в общем керамическом массиве Костромы затруднено из-за возможного присутствия в слоях красноглиняной керамики московского производства, где подобная посуда изготавливалась уже в XIV, и, возможно, в конце XIII в. [14, с. 98–99]. По свидетельству С.И. Алексеева, в Костроме в XV в. получает широкое распространение красная гладкая керамика с преобладающей примесью песка, в это же время появляются краснолощеные сосуды [15, с. 223]. Кроме того, уже в XIV в. в Северо-Восточной Руси распространяется посуда, изготовленная по болгарским образцам. Свидетельство тому – находки горнов для ее изготовления во Владимире и на Рузском городище [21].
Таким образом, атрибуция красноглиняной посуды, полученной при проведении археологических исследований в Костромском крае, связана с решением общих вопросов становления, развития керамического производства, определения места, занимаемого красноглиняной посудой в керамическом комплексе региона, выявления импортов, связей костромских производителей керамики с мастерами из соседних и отдаленных территорий, в том числе из Волжской Болгарии. Несомненно, данный вопрос требует детальной разработки и еще ожидает своего изучения с выделением и привлечением всего массива накопленного материала.
При детальном осмотре керамических коллекций, собранных во время исследований Костромы и хранящихся в Костромском музее-заповеднике, удалось выявить более многочисленную группу фрагментов керамики этого типа. В настоящее время можно говорить о девяти местонахождениях гончарной посуды, которую по морфологическим признакам возможно соотнести с общеболгарской.
1) На ул. Пятницкой, во дворе дома 11 (раскоп IV, 1951 г., кв. 2, глубина 80 см) найден обломок красноглиняного сосуда с линейно-арочным орнаментом [22]. Раскопки производились сотрудниками Костромского областного краеведческого музея в районе улиц Пятницкая и Островского, расположенных на территории исторического центра г. Костромы, под руководством М.В. Фехнер и при участии сотрудника музея Н.Н. Яблоковой. Данные работы были проведены с целью уточнения времени и первоначального местоположения города Костромы. Для этого в районе исторического центра города были разбиты 6 раскопов и 2 шурфа. Раскоп 4 площадью 6 м², где был найден интересующий нас фрагмент, был заложен на склоне холма, обращенного к реке Суле (левый приток р. Волги). Фрагмент происходит, по всей видимости, из слоя «серой земли мощностью 45–100 см с кирпичным щебнем и керамикой, среди которой преобладали фрагменты посуды XVI–XVII вв.» [23, с. 106]. Среди находок более раннего времени из этого раскопа исследователь обращает внимание на обломок медного креста-складня XV–XVI вв. [23, с. 106]. Фрагмент красноглиняного гончарного сосуда (рис. 4: 1) найден на глубине 80 см. Его размеры 7,5 × 5,6 см, толщина черепка – 0,6 см. С внешней стороны фрагмент украшен линейно-арочным орнаментом, состоящим из трех рельефных горизонтальных линий и расположенных выше повторяющихся дуг, расстояние между основаниями которых 4,2 см. Черепок после обжига коричневый, обжиг хороший (без слоистости и потемнения на изломе), лощение вертикальное редкое. Формовочная масса без видимых примесей. С внутренней стороны заметны следы неравномерного заглаживания. Судя по незначительному вертикальному изгибу и толщине фрагмента, он является частью стенки крупного тарного сосуда – кувшина или корчаги. Орнамент имеет прямые аналогии в оформлении глиняной посуды Волжской Болгарии XIII–XV вв. [24, рис. 56, 57].
Рисунок 4 – Фрагменты красноглиняных гончарных сосудов из раскопок в Костроме: 1 – ул. Пятницкая, во дворе дома 11, М.В. Фехнер, 1951 г. (из собрания фонда «Археология», ОГБУК «Костромской государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник»); 2–5 – ул. Ленина, д. 21 «Б», раскоп XX, С.И. Алексеев
2) На территории бывшего Анастасьинского монастыря (Анастасьинский раскоп, 1989 г.) в коллекции керамического материала выделено 26 фрагментов красноглиняной посуды. Работами на этом участке вскрыт мощный культурный слой (до 2,2 м) и выявлено 26 погребений XIV–XVIII вв., относящихся к монастырскому кладбищу. Среди находок есть предметы, свидетельствующие о существовании здесь и более ранних слоев: фрагмент стеклянного зеленого браслета перевитого двойной желтой нитью, датированный XII – началом XIV вв., железный замок XIII – начала XV вв. [16, с. 73].
3) Ул. Островского, во дворе дома 18 «А» (Раскоп XIV). Ранние горизонты раскопа датированы серединой – второй половиной XII в. К периоду 2-й половины XIII – 1-й половины XIV вв. относятся остатки срубной конструкции с опущенными в землю нижними венцами жилой постройки. Объект обнаружен в кв. А/1, А/2, Б/2, Б/3, В/2, В/3, Г/3 на отметках −60, −118 см от «0». С ним связана подпечная яма, где найдены обломки стеклянных браслетов, отнесенных исследователем ко второй половине XII – началу XIV вв. К тому же строительному горизонту принадлежит находка фрагмента кашинной посуды из кв. В/3 (отметка −80 от 0) [25]. В материалах раскопа выявлено восемь фрагментов красноглиняной гончарной посуды. Эти находки происходят из кв. А/1, Б/1, с глубин 52–79 – 115–140 см. Все черепки после обжига – коричневого цвета (6 с лощением, 2 без лощения), в трех случаях в формовочной массе наблюдаются редкие вкрапления песка, в одном случае – мелкая шамотная крошка. 5 фрагментов – плохого обжига, 3 фрагмента – хорошего. Лощение вертикальное, в трех случаях – сплошное с гладкой т.н. «маслянистой» поверхностью, сближающее данные фрагменты с образцами болгарской домонгольской керамики. Толщина черепков варьирует от 0,4 до 0,7 см.
4) На месте запроектированного здания по ул. Ленина, д. 21 «Б» (раскоп XX) найдены четыре фрагмента (3 с лощением, 1 без лощения) красноглиняной гончарной посуды (рис. 4: 2–5). Среди них фрагмент горловины корчаги с гребенчатым орнаментом (№ по полевой описи 1723). Черепок после обжига коричневый, обжиг хороший, лощение нанесено с внутренней стороны горловины. Горловина приземистая, блоковидной формы с горизонтальным подтреугольным выступом по внешней стороне. У основания нанесен орнамент из часто поставленных с наклоном гребенчатых штампов. Высота горловины – 2,5 см, реконструируемый диаметр по внешнему краю – 21,5 см. Второй фрагмент (№ по полевой описи 1139) является частью стенки толстостенного сосуда (толщина фрагмента 1,0 см), после обжига – коричневого цвета. Черепок в изломе трехслойный, с серой полосой пережога. По внешней стороне – сплошное вертикальное лощение. Формовочная масса без видимых примесей. Оба предмета происходят из заполнения ямы 25. Еще один фрагмент – часть стенки и днища (№ по полевой описи 771) происходит из предматерикового слоя, найден в кв. В/2 при разборке 3 пласта. Черепок после обжига – коричневого цвета, обжиг хороший, лощение вертикальное частое. Реконструируемый диаметр дна составляет 10 см. С внутренней стороны по окружности дна имеется небольшой выступ-поддон 0,3 × 0,1 см. Судя по наклону стенки относительно дна, можно предположить, что наибольшее расширение тулова сосуда приходится на его нижнюю часть. Мощность культурного слоя в XX раскопе составила до 1,4 м. По свидетельству исследователя, в ходе работ выявлены линии частоколов XIII–XIV вв. Среди находок отмечены и фрагменты золотоордынской кашинной посуды [17, с. 34].
5) При частичном разборе коллекции массового материала, собранной во время работ на месте строительства пристройки к зданию Отделения Пенсионного фонда по Костромской области по ул. Комсомольской. д. 31 «А» (раскоп XXIII), был найден 21 фрагмент красноглиняной гончарной посуды, вероятно, имеющей болгарские или золотоордынские истоки. Среди находок: венчик корчаги, две горловины крупных кувшинов, обломки стенок сосудов (рис. 5). Стратиграфия культурного слоя раскопа характеризуется следующим образом: серая супесь – XII в.; темно-серая – XIII–XIV вв., серовато-черная – XV–XVII вв., серовато-коричневая – XVIII–XIX вв. [17, с. 34].
Рисунок 5 – Фрагменты красноглиняных гончарных сосудов из раскопок в Костроме, раскоп XXIII, ул. Комсомольская. д. 31 «А», С.И. Алексеев (1–10 рисунок; 11 – фото)
6) На территории завода «Фанплит», расположенном на правом берегу р. Волги, рядом с историческим ядром города найден развал корчаги (рис. 6). Сосуд был обнаружен в 2006 г. во время проведения археологического надзора при прокладке траншеи инженерных коммуникаций [26]. Горловина подцилиндрической формы диаметром 19,2 см и высотой 3,5 см раструбообразно расширяется к краю венчика, с внешней стороны имеет горизонтальный подтреугольный выступ. Орнамент зонный, располагается поясами по тулову сосуда, оставляя лакуны, обработанные редким наклонным лощением, чередующимся с перекрестным. В основании горловины орнамент линейно-елочный, ниже – линейный, с редко поставленными отпечатками гребенки. В зоне наибольшего расширения тулова – линейно-арочный. Обжиг хороший, хотя, судя по состоянию некоторых фрагментов, сосуд уже после разрушения подвергался сильному нагреванию, вероятно, вследствие пожара. Черепок после обжига коричневого цвета. Формовочная масса без видимых примесей.
Рисунок 6 – Развал корчаги с территории завода «Фанплит», г. Кострома, 2006 г. (1 – рисунок; 2 – фото)
Изготовление этого сосуда можно отнести к одному из керамических центров Волжской Болгарии золотоордынского времени. По своему внешнему облику и технологическим особенностям он близок подобной продукции, производимой в одной из мастерских города Болгара [24, с. 77, 79; 27, с. 121]. Находка изделия в непосредственной близости от реки не случайна, так как посуда такого типа использовалась для хранения и перевозки больших объемов сыпучих грузов и жидкостей (например, зерна или масла). Правомерно предположить, что подобные грузы доставлялись в Кострому, которая в XIII–XIV вв. становится одним из крупных торгово-ремесленных городов Руси, из Среднего Поволжья водным путем.
7) Один фрагмент стенки красноглиняного сосуда происходит из коллекции, собранной во время археологических работ 2008 г. на территории завода им. Красина (пр. Текстильщиков. д. 73). Черепок с небольшими включениями мелкого шамота в формовочной массе, после обжига – коричневый, в изломе – коричневый. Толщина – 0,6–0,8 см.
8) Ряд фрагментов красноглиняной керамики найден во время охранных работ на ул. Депутатской. д. 29 «Б», в 2014 г. [28]. Среди них фрагмент горловины кувшина, венчик небольшой корчажки (хумчи), фрагменты стенок и ручек столовой и тарной посуды (рис. 7: 1, 2, 4). Интересно, что форма венчика корчажки подобна фрагменту венчика, происходящему из раскопок на ул. Ленина (раскоп XX) (рис. 5: 7), что может предполагать изготовление данных изделий в одной и той же мастерской.
Рисунок 7 – Находки из раскопа на ул. Депутатской. д. 29 «Б» в г. Костроме (О.В. Новикова, 2014 г.): 1 – фрагмент горловины корчажки; 2 – горловина белоглиняной фляги с двумя петлеобразными ручками; 3 – железная накладка с раздвоенными в виде рожек концами; 4 – фрагмент горловины кувшина с рифлением на внешней стороне и добавками дресвы в формовочную массу
Среди прочих находок значительный интерес представляет находка горловины белоглиняной фляги с двумя петлеобразными ручками, прикрепленными к краю устья и плечикам сосуда (рис. 7: 2). Предмет изготовлен из неожелезнённой глины, формовочная масса – с добавками мелкого песка и растительности (?). На внутренней стороне – следы вытягивания на гончарном круге, на ручках – следы разнонаправленного заглаживания. На сохранившихся остатках тулова с внутренней стороны – шов от соединения двух половинок тулова, тисненых в специальной форме – калыпе. Обжиг восстановительный. Черепок после обжига серый. Неполивные изделия, тисненые в форме – калыпе, изготавливали в странах Востока с IX по XV в. В XI–XIII вв. подобная технология была широко распространена в Иране и Средней Азии, после монгольского нашествия дальнейшее развитие этой посуды получило в Хорезме и золотоордынских городах Поволжья. По особенностям материала и формовки изделия, его можно соотнести с тисненой (штампованной) керамикой Средней Азии (вероятно, Хорезм). Все известные находки подобных изделий на территории Руси относятся к золотоордынской эпохе (вторая половина XIII–XIV вв.: Белоозеро, Нижний Новгород, Москва, Коломна, Владимир, Переславль-Рязанский, Пронск и др.) [20, с. 144–145]. По мнению В.Ю. Коваля, находки таких предметов, как керамические фляги, в совокупности с другими предметами могут служить археологическим маркером проживания на территории Руси ордынского населения [29, с. 82–83]. Отсутствие в сопутствующем материале кашинной посуды позволяет ограничить верхнюю границу бытования изделия первой третью XIV в. Предмет происходит из ямы 9, где был найден вместе с обломком стеклянного браслета XII–XIV вв. Браслеты подобного рода могут быть датированы второй половиной XIII–XIV в. Они встречаются широко в древнерусских городах (Киев, Полоцк, Вышгород, Новгород и др.), в золотоордынское время могли изготавливаться в мастерских Сарая (Селитренное городище) [30, с. 190]. Кроме того, в данном объекте были найдены фрагменты красноглиняной керамики, морфологически соотносимые с керамикой Волжской Болгарии золотоордынского времени и нижневолжских городов Золотой Орды, а также железная накладка с раздвоенными в виде рожек концами (рис. 7: 3).
Накладки подобной формы, назначение которых пока не совсем понятно исследователям, устойчиво соотносятся некоторыми из них с ордынской культурой. В.Ю. Коваль упоминает три пункта находок таких предметов на территории Руси: Московский Кремль, селище Мякинино 2 на северо-западной окраине Москвы, городище Ростиславль, где они встречаются в комплексах XIV в. или в переотложенном состоянии в комплексах XV в. [29, с. 83–84]. Подобные изделия известны на территории Болгарского городища в материалах золотоордынского времени (раскоп CXXII 1995–1996 гг. и др.) [31, рис. 10: 8–10].
Вызывает интерес еще один предмет, обнаруженный при исследовании участка на ул. Депутатской. Это горловина кувшина с рифлением на внешней стороне, край раструбообразный закругленный (рис. 7: 4). Ручка сосуда прикреплена в средней части, дугообразная, с вертикальной ложбиной с внешней стороны по центру. Изготовлен из ожелезнённой глины с примесью в формовочной массе дресвы (фракции разного размера). Подправлен на гончарном круге (горловина). Обжиг окислительный. Черепок после обжига сверху коричневый, изнутри черный. Поверхность неровная, со следами грубого заглаживания. Сходные по форме сосуды мы можем увидеть в материалах Болгарского городища. Один из них, отнесенный к кувшинам 11 типа I общеболгарской группы керамики, происходит из горизонта слоя, относимого к позднему периоду домонгольского времени – раннему золотоордынскому периоду (до первых десятилетий XIV в.) [24, рис. 38: 4]. Рифление на внешней стороне горловины и раздвоение ручки сосуда позволяет видеть в нем подражание некоторым формам красноглиняных кувшинов золотоордынского времени, выполненное местными мастерами с применением местных глиняных масс. Предлагаемая исследователем датировка предмета: вторая половина XIII–XIV вв.
Среди основных форм посуды преобладают тарные виды: корчаги, крупные одноручные кувшины, однако встречаются и фрагменты с толщиной стенок 0,3–0,4 см, относящиеся к столовой или кухонной посуде. Интересно, что среди них есть образцы коричневого цвета с характерной для болгарской посуды домонгольского времени т.н. «маслянистой» лощеной поверхностью. Для тарной посуды можно отметить более «сухой» черепок, редкое вертикальное лощение или его отсутствие, линейный, линейно-волнистый, линейно-арочный, гребенчатый или ёлочно-гребенчатый орнамент. Формы венчиков корчаг сближают их с сосудами, производимыми в мастерских Волжской Болгарии в золотоордынское время [27, рис. 69: 4]. Кувшины сохранились в виде фрагментов горловин и ручки. Одно из изделий – желтовато-коричневого цвета, формовочная масса – с примесью мелкого песка, имеется линейный орнамент в основании горловины, край которой оформлен небольшим сливом. Лощение редкое вертикальное. Фрагмент второго кувшина – более толстостенный, коричневого цвета, с линейным декором в основании горла, ниже которого имеется редкое вертикальное лощение. Возможные аналогии этой керамики в изделиях золотоордынских мастерских Волжской Болгарии или нижневолжских городов [27, рис. 71: 8; 32, рис. 1: 11, 12].
Сведения о восточных находках домонгольской и золотоордынской эпох, происходящих из других поселенческих памятников Костромского края, немногочисленны. Прежде всего, ввиду недостаточной изученности основных городских центров этого времени на территории региона. Из опубликованных данных следует отметить материалы из раскопок летописной Унжи, где зафиксированы фрагменты посуды из Волжской Болгарии и, возможно, из Ирана [33, с. 311]. Найдены фрагменты посуды XIV в. из Маджара на селище Тетеринское в Нерехтском районе [34, с. 247], серебряный джучидский дирхем, чеканенный в Азаке в 1358 г. от имени хана Бердибека, – на городище Унорож (раскопки А.В. Новикова в 2021 г., определение Д.Г. Мухаметшина) (рис. 3: 3).
Представляют интерес находки, сделанные в самой северо-восточной части Костромской области, в Вохомском районе. Здесь в 2001 году во время изучения городища Городок (I тыс. н.э., XII–XVII вв.), расположенного на левом берегу р. Вохмы (правый приток р. Ветлуги), были найдены два фрагмента кашинной керамики золотоордынского времени [35]. Фрагменты с обеих сторон покрыты бирюзовой прозрачной поливой. С внешней стороны видны следы монохромной подглазурной росписи темного цвета (из-за размеров фрагментов – неразборчивы). Форма изделия практически не угадывается, однако можно предположить, что данные фрагменты являлись стенками столового сосуда, принадлежащего представителям местной социальной верхушки. Интересен сам факт попадания данного изделия в столь отдаленный район, свидетельствующий, вероятно, о бытовании в золотоордынское время торговых путей на р. Ветлуге и ее притоках.
Можно предположить, что появление кашинной керамики на р. Вохме связано, прежде всего, с торгово-экономической жизнью Вятской земли, где также зафиксированы болгаро-татарские материалы: монеты, украшения XIII–XIV вв., каменная вставка к перстню; золотая пуговица, медная бляха миндалевидной формы с литым растительным узором и арабской вязью, бытовые вещи, керамика. По мнению Л.Д. Макарова, «подавляющая часть находок, включая керамику, попала на Вятку как результат торговых контактов и использовалась здесь местным нерядовым населением» [36, с. 153].
Представленная выборка, очевидно, не охватывает всего комплекса посуды и вещей, которые могут иметь болгарские и золотоордынские истоки. Для более полного сбора данных необходим анализ всего средневекового керамического комплекса Костромы, выделение в нем красноглиняной посуды и сопоставление ее с образцами других керамических центров (Москвы, Владимира), чтобы выявить посуду восточных истоков. Данная работа может быть плодотворна для выяснения внешних связей жителей Костромского края, места Костромы в волжской торговле XIII–XIV вв., особенностей становления местного керамического производства. Можно предположить, что, несмотря на свою малочисленность, степень которой еще требует своего статистического подтверждения, красноглиняная керамика болгарских и золотоордынских истоков не могла не повлиять на технологию костромского гончарства, стилистику и морфологию керамических изделий местных мастеров.
Таким образом, контакты местных жителей, изготовлявших сетчатую керамику, с носителями культурных традиций Волго-Камья (вятско-ветлужской культуры ананьинской культурно-исторической области) можно отследить уже в раннем железном веке [37, рис. 2–8]. Наиболее активное взаимодействие определяется серединой I тыс. до н.э. [38, с. 49, 61]. Наличие связей, способствующих проникновению на северо-восток Костромского края древностей восточного круга, устанавливается и в VII в. н.э. Они могли реализовываться на основе взаимоотношений местного населения с финно-угорским миром Прикамья, связанным, в свою очередь, с населением Среднего Поволжья, регион которого был перевалочным пунктом на пути восточного импорта в северном и северо-западном направлениях.
В IX–X вв. взаимодействие усиливается в связи с развертыванием системы международной торговли и участием в ней новых групп населения, среди которых активное место занимают волжские болгары. Не исключено их проникновение в округу Галичского озера, о чем свидетельствуют находки в раннем слое городища Унорож. Также возможен вариант попадания восточного импорта в регион от волжских болгар через посредничество жителей Прикамья, присутствие которых отмечено находками роговых гребней с зооморфными рукоятями, копоушек, некоторых видов украшений (подвески-костыльки), наличием в керамическом комплексе городища керамики с примесью толченой раковины.
Следующий этап связан с ростом значения костромского отрезка волжской торговой магистрали, основанием Костромы в последней трети XII – начале XIII вв. и превращением ее в один из динамично развивающихся торгово-ремесленных городов Северо-Восточной Руси [39, с. 93–94]. Во второй половине XIII–XIV вв. на территории города появляются комплексы с посудой, характерной для Волжской Болгарии и золотоордынских городов Нижнего Поволжья. Они немногочисленны, но в подавляющем большинстве случаев могут свидетельствовать о привилегированном социальном статусе владельцев, очевидно, представителей торгово-ремесленной верхушки города.
Экономические связи Костромы с Волжской Болгарией и городами Золотой Орды не могли не способствовать появлению здесь болгарских и ордынских купцов, через посредничество которых в город попадали восточные товары. Не исключено их длительное проживание в городе во время проведения торговых операций. В этой связи могут быть интересны находки в районе ул. Депутатской, где вещи восточного облика зафиксированы в рамках одного археологического объекта.
В.Н. Татищев говорит о болгарах, которые бежали на Русь в 1236 г. от монгольского нашествия и были расселены великим князем Юрием Всеволодовичем по городам вдоль Волги [40, с. 230]. С этими сведениями А.Х. Халиков связывал свое предположение о появлении сел с болгарскими выходцами около Костромы и выше по Волге, в частности, в Новоторжеской земле под Тверью [41, с. 35–36]. В свете археологических материалов, полученных на территории Костромы и региона в целом, вопрос существования в Костроме или рядом с ней болгарского поселения или проживания в городе выходцев из Золотой Орды не противоречит имеющимся данным, вместе с тем, несомненно, требует специального археологического изучения.
About the authors
Vyacheslav Sergeevich Baranov
Khalikov Institute of Archaeology of the Tatarstan Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: sl.baranov@mail.ru
Candidate of Historical Sciences, Senior Researcher at the Museum of Archaeology of the Republic of Tatarstan
Russian Federation, KazanAleksandr Viktorovich Novikov
Khalikov Institute of Archaeology of the Tatarstan Academy of Sciences; Kostroma Archaeological Expedition
Email: novikov-kostroma@mail.ru
Candidate of Historical Sciences, Researcher at the Finno-Ugric Archaeology Department; Deputy General Director
Russian Federation, Kazan; KostromaOlga Vyacheslavovna Novikova
Kostroma Archaeological Expedition
Email: novikova-kostroma@mail.ru
General Director
Russian Federation, KostromaReferences
- Рябинин Е.А. Костромское Поволжье в эпоху средневековья. Л.: Наука, 1986. 160 с.
- Новиков А.В. Культурная трансформация на Верхней Волге в раннем железном веке // Археология евразийских степей. 2022. № 2. С. 382–405.
- Новиков А.В. Поселения с гребенчато-шнуровой и шнуровой керамикой раннего железного века Костромского Поволжья // Археология Евразийских степей. 2018. № 2. С. 12–289.
- Чижевский А.А., Новиков А.В. Зооморфная фигурка из Одоевского городища // Поволжская археология. 2024. № 3 (49). С. 138–151. doi: 10.24852/pa2024.3.49.138. 151.
- Леонтьев А.Е. Поповское городище (результаты раскопок 1980–1984 гг.) // Раннесредневековые древности Верхнего Поволжья (материалы работ Волго-Окской экспедиции) / отв. ред. В.В. Седов. М.: Институт археологии АН СССР, 1989. С. 5–105.
- Самойлович Н.Г. Керамика Поповского городища // Раннесредневековые древности Верхнего Поволжья (материалы работ Волго-Окской экспедиции) / отв. ред. В.В. Седов. М.: Институт археологии АН СССР, 1989. С. 106–126.
- Леонтьев А.Е. Археология мери: К предыстории Северо-Восточной Руси. М.: Геоэко, 1996. 341 с.
- Голдина Е.В. Бусы могильников неволинской культуры (конец IV – IX вв.): монография. Ижевск, 2010. 264 с.
- Полубояринова М.Д. Украшения из цветных камней Болгара и Золотой Орды. М.: ИА, 1991. 112 с.
- Львова З.А. Стеклянные бусы Старой Ладоги. Часть I. Способы изготовления, ареал и время распространения // Археологический сборник. Л.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 1968. С. 64–94.
- Новиков А.В., Баранов В.С. Городище Унорож: предварительные итоги археологических работ 2014 г. // Поволжская археология. 2016. № 1 (15). С. 143–168. doi: 10.24852/pa2016.1.15.143.168.
- Рябинин Е.А. Финно-угорские племена в составе Древней Руси: К истории славяно-финских этнокультурных связей: Историко-археологические очерки. СПб.: Издво Санкт-Петербургского университета, 1997. 260 с.
- Горюнова Е.И. Меря и мари // Происхождение марийского народа. Йошкар-Ола: Марийское книжное издво, 1967. С. 70–78.
- Полубояринова М.Д. Русь и Волжская Болгария в X–XV вв. М.: Наука, 1993. 123 с.
- Археология Костромского края / под ред. А.Е. Леонтьева. Кострома, 1997. 274 с.
- Алексеев С.И. Материалы к археологической карте города Костромы // Историко-археологическое изучение Поволжья: межвуз. сб. Йошкар-Ола, 1994. С. 71–86.
- Алексеев С.И. Итоги археологических исследований в Костроме и Костромской области (1989–2000 гг.) // Вестник Костромской археологической экспедиции. 2001. Вып. 1. С. 29–36.
- Алексеев С.И. Торговые связи Костромы в XII– XVII вв. // Губернский дом. 1999. № 5–6 (36–37). С. 5–7.
- Алексеев С.И. Археологические источники в контексте формирования территории г. Костромы в XII– XVIII вв. // Вестник Костромского государственного университета имени Н.А. Некрасова. 1999. № 2. С. 57–59.
- Коваль В.Ю. Керамика Востока на Руси. Конец IX–XVII век / отв. ред. Л.А. Беляев. М.: Наука, 2010. 269 с.
- Голубева Л.А. Раскопки в г. Рузе // Труды Государственного Исторического музея. Вып. 22. М., 1953. С. 141–162.
- Коллекция Костромского музея-заповедника: КМЗ КОК 15290/584.
- Фехнер М.В. Раскопки в Костроме (к вопросу о времени возникновения Костромы и ее первоначальном местоположении) // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры. 1952. Вып. XLVII. С. 101–108.
- Хлебникова Т.А. Неполивная керамика Болгара // Город Болгар: Очерки ремесленной деятельности / отв. ред. Г.А. Федоров-Давыдов. М.: Наука, 1988. С. 8–102.
- Алексеев С.И. Отчет об археологических раскопках в г. Костроме в 1992 г. // Архив Департамента культурного наследия Костромской области. № 5 от 07.04.2008 г.
- Материалы ОГБУ «Наследие», 2006 г. Полевой шифр: Фп. К-06.
- Кокорина Н.А. Керамика Волжской Булгарии второй половины XI – начала XV веков (к проблеме преемственности булгарской и булгаро-татарской культур). Казань, 2002. 383 с.
- Новикова О.В. Научный отчёт о выполненных археологических раскопках в г. Костроме на участках планируемого строительства по адресам: пр-т Текстильщиков, 92, ул. Депутатская, 29 б, ул. Мясницкая, 73 и ул. Войкова, 3 в 2014 г. // Архив ИА РАН. Кострома, 2015.
- Коваль В.Ю. Ордынцы на Руси // Русь и Восток в IX–XVI веках: новые археологические исследования / отв. ред. Н.А. Макаров, В.Ю. Коваль; сост. В.Ю. Коваль. М.: Наука, 2010. С. 76–85.
- Полубояринова М.Д. Стеклянные изделия Болгарского городища // Город Болгар: Очерки ремесленной деятельности / отв. ред. Г.А. Федоров-Давыдов. М.: Наука, 1988. С. 149–217.
- Баранов В.С. Объекты жилой застройки одного из районов юго-восточной периферии города Болгара // Город Болгар. Жилища и жилая застройка / отв. ред. А.Г. Ситдиков. М.: Наука, 2016. С. 192–245.
- Курочкина С.А. Классификация керамики Сарайаль-Джедида // Поволжье и сопредельные территории в средние века (Труды Государственного Исторического музея. Вып. 135). М., 2002. С. 90–95.
- Щербаков В.Л. О занятиях жителей средневековой Унжи (по данным археологических исследований (2014– 2016 гг.) // Музейный Хронограф: сб. ст. и исторических документов. Вып. 8. Кострома: ОГБУК КГИАХМЗ, 2020. 528 с.
- Щербаков В.Л. Археологические исследования селища Тетеринское XIII–XIX вв. в Нерехтском районе Костромской области в 2012–2014 гг. (предварительные итоги) // Археология Владимиро-Суздальской земли: матлы науч. семинара. Вып. 6 / отв. ред. Н.А. Макаров. М.: ИА РАН, 2016. С. 240–256.
- Новиков А.В. Отчет об охранных археологических раскопках городища Городок в 2001 г. (Костромская область, Вохомский район) // Архив ИА РАН. Кострома, 2002.
- Макаров Л.Д. Вятский край в системе болгаро-ордынского влияния // Золотоордынское наследие: мат-лы междунар. науч. конф. «Политическая и социально-экономическая история Золотой Орды (XIII–XV вв.)» (17 марта 2009 г.). Вып. 1. Казань: Фэн, 2009. С. 150–156.
- Новиков А.В. Комплексы гребенчато-шнуровой и шнуровой керамики РЖВ поселения Ватажка // Ананьинский мир: истоки, развитие, связи, исторические судьбы (Археология евразийских степей. Вып. 20). Казань: Отечество, 2014. С. 374–387.
- Новиков А.В. Поселения РЖВ Костромского Поволжья (к вопросу об ареале ананьинской культурно-исторической области) // Археология Евразийских степей. 2017. № 4. С. 49–69.
- Кучкин В.А. Формирование государственной территории Северо-Восточной Руси в X–XIV вв. М.: Наука, 1984. 349 с.
- Татищев В.Н. История российская с самых древних времен. В 7 т, т. 3. М., Л., 1964. 333 с.
- Халиков А.Х. Монголы, татары, Золотая Орда и Булгария. Казань: Фэн, 1994. 164 с.
Supplementary files