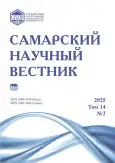Chronological correlation of the early Neolithic in the forest zones of the Middle and Upper Volga regions
- Authors: Vybornov A.A.1, Kudashov A.S.1, Kulkova M.A.2
-
Affiliations:
- Samara State University of Social Sciences and Education
- Herzen State Pedagogical University of Russia
- Issue: Vol 14, No 2 (2025)
- Pages: 63-69
- Section: Historical Sciences
- URL: https://snv63.ru/2309-4370/article/view/689215
- DOI: https://doi.org/10.55355/snv2025142201
- ID: 689215
Cite item
Full Text
Abstract
This paper considers the questions of chronology and features of the Early Neolithic period in the Upper Volga River and forest zone of the Middle Volga River regions. It focuses on the most valid radiocarbon dates obtained from charcoal, animal bones, and charred food crusts, adjusted for the absence of a reservoir effect based on δ13C values. The early stage of the Upper Volga (Volga-Oka) culture is dated from the end of the 7th millennium to the first third of the 6th millennium BP. In the forest zone of the Middle Volga River region, the beginning of Neolithization can be dated to approximately 6800 ¹⁴C BP, coinciding with the appearance of the Elshanian culture. The greatest cultural similarity between these regions is observed during this earlier period. Around 6500 BP, the pricked and toothed decoration tradition appears in the pottery ornamentation of the Upper Volga culture. At this time, groups using ceramics decorated with subtriangular/suboval pricks migrated into the forests of the Mariisky region. Pottery with toothed and dotted line decoration was absent in the Dubovsko-Otarskaya culture. Beginning around 6300 BP, combed, drawn line, and pitted ornamentation, including the belemnite technique, became widespread in the Upper Volga culture during the final stage of the Early Neolithic. In the forest zone of the Middle Volga Region, the pricked tradition of pottery ornamentation spread even before the 5th millennium BC (6000 BP) until contact with the Lyalovo and Kama cultures. Therefore, we can conclude that there were two distinct chronological and cultural stages in the Early Neolithic of these regions.
Full Text
Введение
Территория лесного Поволжья в эпохи неолита–энеолита привлекала внимание А.Я. Брюсова, Д.А. Крайнова, В.М. Раушенбах, А.Х. Халикова, В.П. Третьякова, В.В. Никитина. Достойное место в этой когорте в плане изучения неолита Верхнего Поволжья занимает Александр Витальевич Уткин. В его многогранной деятельности значителен вклад в изучение неолита Верхнего Поволжья в целом [1, с. 40–80], верхневолжской культуры [2, с. 7–8] и хронологии [3, с. 34–41].
В лесной зоне Поволжья Д.А. Крайнов отмечал сходство верхневолжской с волго-камской культурой и допускал определенное влияние последней [4, с. 64]. Это способствует разработке вопросов о происхождении керамического производства [5, с. 215–216] и волжской культурной области раннего неолита [6, с. 302–303]. За последние годы накоплен и значительный массив радиоуглеродных дат для раннего неолита лесного Поволжья. Это позволяет рассмотреть хронологический аспект изучения двух культур. И в этом заключается научная новизна предлагаемой публикации. Целью статьи является сравнительный анализ хронологических рамок этапов верхневолжской и дубовско-отарской культур.
Материалы и обсуждение
Ранний неолит Волго-Окского междуречья, по мнению большинства специалистов, представлен верхневолжской культурой. По ряду показателей (стратиграфия, типология и др.) выделяется несколько этапов ее развития [7, с. 19–20]. С накоплением радиоуглеродных дат для нескольких памятников были уточнены хронологические рамки культуры в целом [8, с. 13–20]. Особое значение имели результаты для раннего этапа, так как начало неолита было одним из наиболее актуальных вопросов [9, с. 6–10]. В этом аспекте видится важной мысль В.М. Лозовского, который предполагал поликультурную мезолитическую основу в интересуемом регионе, на которую наложилась керамическая традиция, привнесённая населением с юга [10]. С учетом специфики как стратиграфии и планиграфии стоянок Окаемово 5 и Озерки 17 [11, с. 99–103] имеет смысл рассматривать данные по периодизации и хронологии по наиболее четко стратифицированному памятнику – Сахтыш-2а [12, с. 41–45], а по керамике проведен всесторонний анализ [13, с. 159–164]. Здесь необходима одна ремарка: в предлагаемой работе учтены только те даты, у которых есть значение δ13C и оно больше −28‰. То есть, они не подвержены резервуарному эффекту (рис. 1). Наиболее достоверно выделяется неорнаментированная плоскодонная керамика с примесью только раковины и горизонтальным рядом сквозных отверстий под срезом венчика, возможно с раздельными наколами овальной формы [13, с. 159]. По нагару с такой керамики получены даты около 7100 BP и, учитывая значение δ13C более −27‰ (табл. 1: 1, 2) можно предполагать их валидность. Подтверждением могут служить даты по дереву со стоянки Становое-4 и Замостье 2 (табл. 1: 3, 4). В дальнейшем были получены совпадающие значения и по нагару с керамики последнего памятника [14, с. 190]. Они не подвержены резервуарному эффекту при допустимом δ13C (табл. 1: 5, 6). Закрепили эту версию и результаты, полученные на АМS, для стоянки Сахтыш-2а по нагару, неподверженному резервуарному эффекту (табл. 1: 7, 8) [15, p. 1036]. Таким образом, вполне вероятна гипотеза о начальном моменте неолитизации Верхнего Поволжья в интервале от 7100 до 7000 BP. Эту версию подкрепляет и серия максимально близких дат порядка 6980–6920 BP, полученных ранее для четырех памятников по дереву и углю (табл. 1: 9–12), включая стоянку Озерки 5. Они в дальнейшем подтвердились как по нагару с δ13C без влияния резервуарного эффекта (табл. 1: 13) на Сахтыше-2а, так и на АМS по костям лося для стоянки Озерки 5 (табл. 1: 14). Несмотря на то, что в работе почти не привлекаются даты по сапропелю около 6800 BP, тем не менее имеется девять дат по трем стоянкам со сходными параметрами. Первые две были получены в ГИНе по верше и черепу лося (табл. 1: 15, 16). Остальные сделаны по нагару, как традиционной методикой (табл. 1: 17, 19), так и на AMS в лабораториях г. Уппсала и г. Киль (табл. 1: 18, 21–23). Они совпали как по датам, так и по δ13C, что указывает на отсутствие резервуарного эффекта. Особо следует отметить дату по волокну ивы (табл. 1: 20), которая соответствует приведенные выше значения порядка 6850 BP. Исследователи отмечают, что в это время могла появиться посуда с разреженными каплевидными наколами [13, с. 160]. В лабораториях г. Санкт-Петербурга были получены две совпадающие даты (табл. 1: 23, 24) для стоянки Замостье 2 по дереву, а затем и нагару около 6700 BP. Они имеют поправки около 150 лет, а две аналогичные с ними даты на АМS от 30 до 50 лет (табл. 1: 25, 26). Это позволяет предположить, что завершение раннего этапа верхневолжской культуры фиксируется не 6800, а 6700 BP. Таким образом, начальный этап неолитизации Верхнего Поволжья укладывается в рамки от 7070 до 6700 BP. Здесь необходимо отметить, что хронологические рамки данного этапа в значительной мере соответствуют временному интервалу волго-окской ранненеолитической культуры [16, с. 234].
Рисунок 1 – Распределение калиброванных радиоуглеродных дат верхневолжской культуры в программе OxCal. 4.4 [17], с использованием калибровочной кривой IntCal20 [18]. Лаборатории традиционного сцинтилляционного метода: Ле – ИИМК РАН (Санкт-Петербург), СПб – РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург), ГИН – Геологический институт РАН (Москва), Ki – Институт геохимии (Киев, Украина). УМС-лаборатории: AAR – УМС-центр в Орхусе (Дания), KIA – Университет Христиана Альбрехта (Киль, Германия), Ua – Университет Упсалы (Швеция), BETA – Бета-Аналитик (Майами, США), CNA – Национальный Центр УМС (Севилья, Испания)
Таблица 1 – Радиоуглеродные даты неолита Верхнего Поволжья и лесного Среднего Поволжья
| Стоянка | Лабораторный индекс | 14C дата (BP) | 13С | Калибров. (cal BC)1 | Материал | |
(1σ) | (2σ) | ||||||
1 | Сахтыш-2a | СПб_1449 | 7088 ± 150 | −22,4 | 6077–5784 | 6240–5664 | нагар |
2 | Сахтыш-2a | СПб_1448 | 7065 ± 150 | −22,4 | 6065–5783 | 6228–5664 | нагар |
3 | Становое-4 | ГИН-8378 | 7030 ± 100 |
| 6005–5800 | 6069–5721 | дощечка |
4 | Замостье 2 | ГИН-7986 | 7000 ± 70 |
| 5979–5800 | 6006–5734 | дерево |
5 | Замостье 2 | СПб_722 | 7105 ± 150 | −26,7 | 6206–5790 | 6335–5669 | нагар |
6 | Замостье 2 | СПб_723 | 7030 ± 100 |
| 6005–5800 | 6069–5721 | нагар |
7 | Сахтыш-2а | KIA-39311 | 7072 ± 36 | −24,0 | 5994–5899 | 6020–5845 | нагар |
8 | Сахтыш-2a | KIA-39309 | 7037 ± 27 | −20,1 | 5980–5889 | 5987–5841 | нагар |
9 | Ивановская-3 | Ле-1949 | 6980 ± 80 |
| 5975–5777 | 6010–5721 | дерево |
10 | Сахтыш-8 | Ле-1382 | 6960 ± 60 |
| 5893–5751 | 5980–5725 | уголь |
11 | Языково-1 | Ле-2051 | 6950 ± 70 |
| 5891–5740 | 5984–5714 | уголь |
12 | Озерки-5 | ГИН-7216 | 6930 ± 70 |
| 5885–5731 | 5980–5669 | щепки |
13 | Сахтыш-2a | СПб_1451 | 6920 ± 150 | −19,1 | 5976–5668 | 6073–5554 | нагар |
14 | Озерки-5 | AAR-14546 | 6944 ± 33 | −22,0 | 5878–5755 | 5966–5730 | кость лося |
15 | Сахтыш-2a | ГИН-12985 | 6830 ± 40 |
| 5736–5664 | 5791–5631 | верша |
16 | Окаёмово-18 | ГИН-6416 | 6800 ± 60 |
| 5725–5638 | 5826–5567 | череп лося |
17 | Сахтыш-2a | СПб_1450 | 6874 ± 150 | −20,0 | 5961–5631 | 6027–5483 | нагар |
18 | Сахтыш-2a | СПб_1457 | 6832 ± 150 | −25,2 | 5884–5569 | 5989–5479 | нагар |
19 | Сахтыш-2а | KIA-39300 | 6848 ± 31 |
| 5750–5667 | 5800–5655 | волокно ивы |
20 | Замостье-2 | Uа-48463 | 6834 ± 63 | −22,8 | 5775–5654 | 5875–5623 | нагар |
21 | Сахтыш-2a | KIA-39301 | 6860 ± 31 | −24,4 | 5784–5711 | 5828–5664 | нагар |
22 | Замостье-2 | KIA-50906 | 6816 ± 31 | −25,1 | 5726–5668 | 5743–5635 | нагар |
23 | Замостье-2 | Ле-9523 | 6730 ± 150 |
| 5745–5480 | 5974–5377 | дерево |
24 | Замостье-2 | СПб_725 | 6720 ± 150 | −25,8 | 5735–5480 | 5970–5375 | нагар |
25 | Замостье-2 | Ua-48465 | 6712 ± 51 | −26,1 | 5703–5561 | 5719–5534 | нагар |
26 | Замостье-2 | KIA-50683 | 6710 ± 30 | −24,5 | 5654–5567 | 5709–5559 | нагар |
27 | Замостье-2 | Ле-9557 | 6670 ± 80 |
| 5654–5483 | 5714–5477 | дерево |
28 | Замостье-2 | CNA-1342 | 6670 ± 47 | −31,8 | 5632–5538 | 5664–5480 | дерево |
29 | Замостье-2 | Ua-50258 | 6617 ± 44 | −28,8 | 5615–5483 | 5619–5479 | дерево |
30 | Воймежное-1 | ГИН-6868 | 6550 ± 100 |
| 5615–5386 | 5655–5315 | уголь |
31 | Ивановская-3 | Ле-1935 | 6540 ± 70 |
| 5610–5408 | 5620–5369 | уголь |
32 | Замостье-2 | BETA-283033 | 6550 ± 31 | −24,7 | 5532–5475 | 5611–5470 | дерево |
33 | Замостье-2 | СПб_727 | 6500 ± 150 |
| 5613–5319 | 5720–5077 | нагар |
34 | Замостье-2 | KIA-50907 | 6545 ± 30 | −25,8 | 5529–5474 | 5611–5416 | волокна |
35 | Воймежное-1 | ГИН-5926 | 6430 ± 40 |
| 5470–5367 | 5474–5321 | дерево |
36 | Замостье-2 | СПб_726 | 6407 ± 150 | −25,7 | 5520–5212 | 5626–5012 | нагар |
37 | Ивановская-3 | Ле-3097 | 6350 ± 70 |
| 5465–5217 | 5475–5128 | дерево |
38 | Сахтыш-2a | СПб_1454 | 6372 ± 150 | −23,4 | 5479–5124 | 5619–4994 | нагар |
39 | Замостье-2 | Ле-9789 | 6300 ± 45 |
| 5313–5215 | 5373–5079 | дерево |
40 | Сахтыш-2a | KIA-39313 | 6371 ± 30 | −26,8 | 5372–5309 | 5469–5220 | нагар |
41 | Сахтыш-2a | KIA-39303 | 6348 ± 26 | −23,3 | 5361–5229 | 5374–5217 | нагар |
42 | Берендеево-2а | Ле-1557 | 6310 ± 70 |
| 5363–5212 | 5470–5064 | уголь |
43 | Сахтыш-2а | ГИН-10932 | 6230 ± 50 |
| 5297–5070 | 5309–5043 | череп лося |
44 | Ивановская-3 | Ле-3094 | 6210 ± 60 |
| 5290–5056 | 5305–5006 | дерево |
45 | Сахтыш-2a | Ki-14555 | 6290 ± 90 |
| 5367–5076 | 5471–5034 | керамика |
46 | Замостье-2 | СПб_1555 | 6283 ± 80 |
| 5359–5079 | 5469–5035 | дерево |
47 | Замостье-2 | Ле-9790 | 6180 ± 60 |
| 5211–5044 | 5302–4952 | дерево |
48 | Сахтыш-2 | Ле-1587 | 6170 ± 80 |
| 5212–5007 | 5308–4903 | уголь |
49 | Сахтыш-2a | СПб_1456 | 6186 ± 150 | −21,3 | 5305–4949 | 5471–4789 | нагар |
50 | Сахтыш-2a | KIA-39302 | 6160 ± 27 | −25,0 | 5206–5044 | 5209–5009 | нагар |
51 | Замостье-2 | Ле-9525 | 6150 ± 180 |
| 5304–4846 | 5475–4687 | дерево |
52 | Замостье-2 | Ле-10658 | 6150 ± 55 |
| 5206–5009 | 5288–4939 | сапропель |
53 | Замостье-2 | Ле-10659 | 6150 ± 90 |
| 5212–4954 | 5305–4845 | сапропель |
Что касается лесного Среднего Поволжья, то наиболее ранней керамикой в Марийском Поволжье допустимо считать сосуды, которые по своим характеристикам сходны с керамикой елшанской культуры лесостепного Поволжья. Она изготовлена из илистой глины, имеет профилированную форму, заглаживание внутренней и лощение внешней поверхности, прочерки в виде косой решетки. По ней получены даты для стоянки Сокольный XII: 6760 ± 130 BP и 6700 ± 125 BP. Встречаются подобные венчики и на других стоянках. Примечательно, что на них нанесены горизонтальные прочерченные желобки, аналогии которым есть как в елшанской культуре, так и на самых ранних сосудах Верхневолжья. Вероятно, имело место проникновение елшанских коллективов в лесную зону Поволжья на рубеже первой и второй четверти VI тыс. до н.э. Что касается дат около 7000 и 6900 BP по органике в керамике, то поправка составляет 120–150 лет и их можно было бы привлекать с учетом значения по нагару на AMS – 6892 ± 40 BP [19, с. 127]. Но ее показатель δ13C составляет −28,1‰, что предполагает удревнение из-за резервуарного эффекта. Более надежной следует признать дату 6700 ± 40 BP, полученной по костям животных для поселения Отарское VI [19, с. 127]. Учитывая разновременность 16 жилищ на данном памятнике, наиболее вероятна ее принадлежность к слабоорнаментированной керамике. Предположению об отнесении даты 6700 BP к керамике с наколами препятствует отсутствие на настоящий момент достоверных значений для подобной посуды на интересуемой территории. Сосуды имеют прямостенную форму, плоский (реже округлый) срез венчика, под которым проходит ряд ямочных сквозных отверстий и плоские донца [20, с. 134–135]. По этим признакам эта посуда сходна с одной из групп керамики на стоянке Сахтыш-2а [13, с. 161] и Замостье 2 [21, с. 160–172]. Их объединяет также тонкостенность, заглаженность и, порой, залощенность поверхностей, примесь к глине песка или шамота. Истоки данной традиции можно проследить в луговском типе керамики – распространённой в лесостепной зоне Поволжья и представляющим собой поздний этап елшанской культуры. Примечательно, что эта группа имеет хроноинтервал от 6700 до 6500 BP [22, с. 131]. Схожие датировки и сопоставимость в типологии дает основания искать общие истоки у населений двух территорий.
Дальнейшее развитие непосредственно верхневолжской культуры связано с появлением орнаментации накольчатой техникой в отступающей манере (ложношнуровая), коротким зубчатым и пунктирным (узким гребенчатым) штампом, приостренных днищ, а на позднем этапе длинного гребенчатого инструмента, прямых длинных прочерков и ямчатых вдавлений аморфной формы, нетождественных белемнитным и округлых донцев. На внутренней стороне фрагментов встречается загладка зубчатым инструментом. Такая обработка фиксируется и на керамике с разреженными наколами. Отличается от более ранней и технология изготовления посуды: она сформирована из глины с примесью шамота. На ряде памятников есть синкретические сосуды (зубчато-накольчатые). Керамика с зубчатыми и гребенчатыми штампами считается пришлой в регионе, носители которой постепенно ассимилировали местную волго-окскую культуру [23, с. 158–161].
Важно, что каменный инвентарь разделяется на два культурно-хронологических комплекса. К первому исследователи относят преимущественно пластинчатую индустрию с позднемезолитическими приемами вторичной обработки. Ко второму – отщеповую технику с приемами бифасиальной обработки [24, с. 690–715]. Что касается нижней границы данного этапа, то, исходя из того, что ранняя фаза завершается около 6700 BP, можно было бы предположить значение 6600 BP. Но таких дат для всех памятников верхневолжской культуры очень мало. В таблицу 1 вставлены те, которые имеют значение δ13C, с некоторым влиянием резервуарного эффекта (табл. 1: 28–30). Поскольку они получены и на AMS в разных лабораториях, можно полагать, что они удревнены и относятся к более позднему, чем 6600 BP. Это весьма интересный момент, учитывая различия в керамическом и каменном инвентаре двух образований. Мы вовсе не настаиваем на хронологическом разрыве между ними. Скорее, стоянок первого становилось меньше, а пришлое население с накольчато-гребенчатой орнаментацией было еще редким. Тем не менее, на ряде памятников развитого этапа исследователи констатируют наличие слабоорнаментированной посуды из глины с примесью шамота [21, с. 178]. Кроме того, можно обратить внимание и на то, что на самой ранней посуде вдавления имеют подокруглую форму и в дальнейшем сохраняют своё значение, но выполнены в отступающей манере. Это вполне могли быть признаки синкретизма волго-окской и верхневолжской традиций [25, с. 130–131].
Наиболее вероятным рубежом исследователи определяют 6500 BP. Первые даты были получены по углю и дереву в ГИНе и ЛОИА для стоянок Воймежное 1 и Ивановская 3 (табл. 1: 31, 32), а затем подтвердились на AMS по дереву, по нагару с значением δ13C без влияния резервуарного эффекта и волокнам (табл. 1: 33–35). Бытуют эти памятники и в интервале 6400–6300 BP (табл. 1: 36–42). Завершающий этап развития ранненеолитической культуры Верхнего Поволжья, когда начинает доминировать гребенчатая орнаментация, допустимо начинать с 6300 BP по дате из угля для стоянки Берендеево 2а (табл. 1: 43). Здесь превалирует именно такая посуда, при сохранении пунктирного штампа [26, с. 70, рис. 3: 34]. Исследователи обратили внимание на различия элементов и композиций, нанесенных короткозубым и длиннозубчатым инструментами [27, с. 143]. Это тоже может быть индикатором различения двух этапов верхневолжской культуры. На ряде других стоянок, материалы которых относятся к заключительному этапу (Замостье 2, Ивановская V и др.), фиксируются и длинные прочерки. Их мотивы и композиции повторяют гребенчатые оттиски. Ямчатые вдавления имеют подовальную (бобовидную) форму. Серия значений по разным материалам укладывается в интервал от 6280 до 6150 BP (табл. 1: 43–53). Нельзя не отметить появление на самой поздней керамике как примеси дресвы (маркера льяловской технологии) и белемнитных ямок, характерных для посуды с ямочно-гребенчатой орнаментацией. В этой связи весьма значима дата для верхнего слоя стоянки Ивановская III – 6090 ± 70 лет BP (Ле-1249) [28, с. 92].
В лесном Среднем Поволжье, по сравнению с западной территорией, ситуация может характеризоваться следующим образом. Около 6600 BP на стоянке Сокольная XII фиксируется керамика с разреженными подокруглыми вдавлениями, а с 6500 BP, судя по датам и на Дубовской III стоянке, появляется и доминирует, в отличие от верхневолжской, техника отступания с наколами треугольной формы [20, с. 134–135]. Хронологически бытование накольчатых комплексов в Марийском Поволжье можно проиллюстрировать датами с Дубовского III поселения 6467 ± 110, 6340 ± 120 и со стоянки Сокольный XVII 6270 ± 120 и 6245 ± 110 [29, с. 23]. Существует и предположение о сосуществовании двух групп.
Таким образом, в регион проникают традиции украшения посуды треугольными/овальными наколами. По своим типологическим характеристикам они близки к более ранним некрупным сосудам и имеют внутреннюю загладку и внешнее лощение, преимущественно прямостенную форму и прямые с плоским срезом венчики. Подобного рода плоскодонная (и как вариант плосковогнутая) посуда присутствует и в лесостепном Среднем Поволжье на раннем этапе развития средневолжской культуры [22]. От более ранней посуды луговского типа на керамике обоих регионов сохраняются горизонтальные ряды ямочных вдавлений под срезом венчика. В рамках середины VI тыс. – первой четверти V тыс. доминирующей, после некоторого времени сосуществования с неорнаментированной керамикой, становится накольчатая. Последняя проходит путь усложнения в орнаментации – от простых разреженных мотивов до более сложных в отступающей манере [30, с. 54–58]. Подтверждением служит и ряд датировок, демонстрирующих длительность бытования комплексов: 6152 ± 150 и 6095 ± 90 с Дубовского III, 6020 ± 90 и 5894 ± 150 с Отарского VI, 5950 ± 90 с Дубовского VII [19, с. 127]. Технология изготовления близка к более ранней традиции – илистая глина с органическим раствором и шамотом.
Нельзя не обратить внимание на то, что если на верхневолжской посуде помимо накольчатой техники нанесения орнамента применялся и короткий зубчатый штамп, то на ранненеолитических сосудах лесного Среднего Поволжья последний орнаментир не употреблялся. Отсутствуют и прямые прочерки, которые представлены на керамике Верхнего Поволжья. На памятниках этого региона встречается симбиотичная накольчато-зубчатая орнаментация, а в Марийских лесах от 6500 до 6000 BP такое сочетание не обнаружено.
Однако, в керамике лесного Среднего Поволжья присутствует ИПС в виде глины, в том числе с дроблением в сухом состоянии [31, с. 77–86]. Такая особенность сближает посуду с наколами с камским ареалом гончарства. Вероятно, это пример контактов носителей накольчатой традиции с гребенчатой в начале V тыс. до н.э. Для камской посуды представлены значения 5890 ± 80 BP по фрагменту с Отарского VI и 5510 ± 90 BP с Нижней Стрелки V [19, с. 128]. Что касается Верхнего Поволжья, то восточные признаки проявляются на керамике ряда стоянок в наплывах на внутренней стороне венчика, вертикальных и горизонтальных зигзагах, косой решетке, шагающей гребенке и других композициях, которые присущи камской культуре. Если в верхневолжской культуре есть примеры контактов в виде накольчато-зубчатых сосудов, то восточнее, в Марийском Поволжье фиксируется несколько иная ситуация. На данной территории обнаружены гибридные экземпляры, которые маркируют сосуществование на определенном отрезке времени накольчатой и ямочно-гребенчатой керамики (это относится к материалам стоянок Дубовское III, Отарское VI, Отарское XIV, Отарское XVII, Старое Мазиково II, Отарское XVI). Последняя появляется в регионе в первой четверти V тыс. до н.э. Для нее имеются даты BP 5930 ± 90 BP (Дубовское III, Ki-15737), 5930 ± 80 BP (Дубовское XII, Ki-14535), 5930 ± 80 BP (Отарское VI, Ki-14449) и др. [19, с. 128]. В дальнейшем наблюдается картина ассимиляции местных ранненеолитических традиций пришедшими с запада группами. Нельзя исключать, что подвижки носителей льяловской и камской культур в лесное Среднее Поволжье вызваны климатическими катаклизмами (похолодание), которое фиксируется специалистами около 6000–5900 BP, что и предопределило именно эти хронологические рамки угасания верхневолжской культуры.
Выводы
Древнейшая керамика в Верхнем Поволжье появляется не позднее 7000 лет BP. Плоскодонная слабоорнаментированная посуда из ила с раковинами и разреженными наколами овальной формы бытовала до 6700 лет BP. В лесном Среднем Поволжье пока отсутствуют памятники с датами около 7000–6900 BP. Не обнаружена и керамика из ила с раковинами, рецептура которой, по данным технологов, является древнейшей. Появление керамики связано с елшанской культурой около 6800 BP. Порядка 6500 BP в лесном Поволжье фиксируется посуда из илистой глины с шамотом и отступающей техникой орнаментации, но на востоке доминирует треугольная, а на западе овальная формы вдавлений. В Марийском полесье на сосудах этого времени отсутствует как зубчатый, так и пунктирный способы орнаментации. От 6300 до 6000 лет BP в Верхнем Поволжье появляется гребенчатая, прочерченная, а затем и гребенчато-ямочная системы украшения поверхностей. В Среднем Поволжье в этом интервале продолжается накольчатая традиция, завершающаяся контактами с носителями камской и льяловской культур в первой четверти V тыс. до н.э. и доминированием последней в дальнейшем.
Таким образом, содержание этапов развития ранненеолитических культур в этих хронологических рамках не тождественны и имеют определенное своеобразие.
About the authors
Alexander Alexeevich Vybornov
Samara State University of Social Sciences and Education
Author for correspondence.
Email: vibornov_kin@mail.ru
Doctor of Historical Sciences, Professor at the Domestic History and Archeology Department
Russian Federation, SamaraAlexander Sergeevich Kudashov
Samara State University of Social Sciences and Education
Email: aleksandr.kudashov@gmail.com
Assistant at the Domestic History and Archeology Department
Russian Federation, SamaraMarianna Alexeevna Kulkova
Herzen State Pedagogical University of Russia
Email: kulkova@mail.ru
Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, Professor at the Geology and Geoecology Department
Russian Federation, Saint PetersburgReferences
- Жилин М.Г., Костылева Е.Л., Уткин А.В., Энговатова А.В. Мезолитические и неолитические культуры Верхнего Поволжья. М.: Наука, 2002. 246 с.
- Крайнов Д.А., Уткин А.В. Стоянка Кухмарь III на Плещеевом озере // Археологические памятники Волго-Клязьминского междуречья. Вып. 3. Иваново: ИГУ, 1990. С. 7–9.
- Крайнов Д.А., Зайцева Г.И., Костылева Е.Л., Уткин А.В. Абсолютная хронология Сахтышских стоянок // Археологические памятники Волго-Клязьминского междуречья. Вып. 5. Иваново: ИГУ, 1991. С. 33–42.
- Крайнов Д.А., Хотинский Н.А. Верхневолжская ранненеолитическая культура // Советская археология. 1977. № 3. С. 42–68.
- Костылева Е.Л. Основные вопросы неолитизации центра Русской равнины (особенности неолитизации лесной зоны) // Неолит–энеолит юга и неолит севера Восточной Европы (новые материалы, исследования, проблемы неолитизации регионов). СПб.: ИИМК РАН, 2003. С. 213–218.
- Никитин В.В. Культура носителей посуды с накольчатым орнаментом в лесной полосе Среднего Поволжья (к проблеме происхождения) // Тверской археологический сборник. Вып. 5. Тверь: ТОИ, 2002. С. 293–303.
- Костылёва Е.Л. Хронология, периодизация и локальные варианты верхневолжской ранненеолитической культуры: автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.06. М., 1987. 24 с.
- Энговатова А.В., Жилин М.Г., Спиридонова Е.А. Хронология верхневолжской ранненеолитической культуры (по материалам многослойных памятников Волго-Окского междуречья) // Российская археология. 1998. № 2. С. 11–21.
- Зарецкая Н.Е., Костылева Е.Л. Радиоуглеродная хронология начального этапа верхневолжской ранненеолитической культуры (по материалам стоянки Сахтыш-2а) // Российская археология. 2008. № 1. С. 5–14.
- Лозовский В.М. Переход от мезолита к неолиту в Волго-Окском междуречье по материалам стоянки Замостье-2: автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.06. СПб., 2003. 22 с.
- Смирнов А.С. Фактологическая основа археологического исследования (на примере верхневолжской ранненеолитической культуры) // Российская археология. 2004. № 2. С. 96–114.
- Жилин М.Г., Костылева Е.Л., Зарецкая Н.Е., Спиридонова Е.А. Природное окружение и история заселения многослойного памятника Сахтыш 2а // Природная среда и модели адаптации озерных поселений в мезолите и неолите лесной зоны Восточной Европы: мат-лы междунар. науч. конф. (Санкт-Петербург, 19–21 мая 2014 г.). СПб.: ИИМК РАН, 2014. С. 41–45.
- Долбунова Е.В., Кулькова М.А., Костылева Е.Л., Мазуркевич А.Н. Новые данные по хронологии ранненеолитических материалов памятника Сахтыш IIа // Радиоуглеродная хронология эпохи неолита Восточной Европы VII–III тысячелетия до н.э.: колл. монография / сост. Г.И. Зайцева, О.В. Лозовская, А.А. Выборнов, А.Н. Мазуркевич. Смоленск: Свиток, 2016. С. 159–170.
- Лозовская О.В., Лозовский В.М. Стоянка Замостье 2 в эпоху неолита. Радиоуглеродная хронология // Радиоуглеродная хронология эпохи неолита Восточной Европы VII–III тысячелетия до н.э.: колл. монография / сост. Г.И. Зайцева, О.В. Лозовская, А.А. Выборнов, А.Н. Мазуркевич. Смоленск: Свиток, 2016. С. 179–202.
- Hartz S., Kostyleva E., Piezonka H., Terberger T., Tsydenova N., Zhilin M.G. Hunter-gatherer pottery and charred residue dating: new results on early ceramics in the north Eurasian forest zone // Radiocarbon. 2012. Vol. 54, iss. 3–4. P. 1033–1048. doi: 10.1017/s0033822200047652.
- Цетлин Ю.Б. Неолит центра Русской равнины: орнаментация керамики и методика периодизации культур. М., 2008. 352 с.
- Ramsey C.B. Methods for summarizing radiocarbon datasets // Radiocarbon. 2017. Vol. 59, iss. 6. P. 1809–1833. doi: 10.1017/rdc.2017.108.
- Reimer P.J., Austin W.E.N., Bard E., Bayliss A., Blackwell P.G. et al. The IntCal20 northern hemisphere radiocarbon age calibration curve (0–55 cal kBP) // Radiocarbon. 2020. Vol. 62, iss. 4. P. 725–757. doi: 10.1017/rdc.2020.41.
- Выборнов А.А., Никитин В.В. Радиоуглеродные данные по неолиту Марийского Поволжья // Радиоуглеродная хронология эпохи неолита Восточной Европы VII–III тысячелетия до н.э.: колл. монография / сост. Г.И. Зайцева, О.В. Лозовская, А.А. Выборнов, А.Н. Мазуркевич. Смоленск: Свиток, 2016. С. 123–128.
- Никитин В.В. Ранний неолит Марийского Поволжья (Труды Марийской археологической экспедиции. Т. IX). Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2011. 470 с.
- Мазуркевич А.Н., Долбунова Е.В., Кулькова М.А. Ранненеолитические керамические комплексы памятника Замостье 2: технология, типология, хронология // Замостье 2. Озерное поселение древних рыболовов эпохи мезолита–неолита в бассейне Верхней Волги. СПб.: ИИМК РАН, 2013. С. 158–181.
- Выборнов А.А. Неолит Волго-Камья: монография. Самара: СГПУ, 2008. 490 с.
- Цетлин Ю.Б. Периодизация истории населения Верхнего Поволжья в эпоху раннего неолита (по данным изучения керамики) // Тверской археологический сборник. Вып. 2. Тверь: ТГОМ. 1996. С. 155–163.
- Цветкова Н.А. Начало неолитической эпохи на Верхней Волге // Вестник Санкт-Петербургского университета. История. 2019. Т. 64, вып. 2. С. 683–717. doi: 10.21638/11701/spbu02.2019.215.
- Цетлин Ю.Б. Некоторые новые сведения о ходе этнокультурных процессов в Верхнем Поволжье в эпоху неолита // Археология евразийских степей. 2024. № 4. С. 129–148. doi: 10.24852/2587-6112.2024.4.129.148.
- Жилин М.Г., Крайнов Д.А. Стоянка Берендеево IIа // Краткие сообщения Института археологии. Вып. 169. М.: Наука, 1982. С. 67–73.
- Костылёва Е.Л. Ранненеолитический верхневолжский комплекс стоянки Сахтыш VIII (Тейковский р-н Ивановской обл.) // Советская археология. 1986. № 4. С. 138–151.
- Тимофеев В.И., Зайцева Г.И., Долуханов П.М., Шукуров А.М. Радиоуглеродная хронология неолита Северной Евразии. СПб.: Теза, 2004. 157 с.
- Кудашов А.С., Андреев К.М., Выборнов А.А., Алешинская А.С., Васильева И.Н., Сомов А.В., Пантелеева Т.Ю. Исследования нового памятника раннего неолита лесного Среднего Поволжья Сокольный XVII // Поволжская Археология. 2024. № 1 (47). С. 8–26. doi: 10.24852/pa2024.1.47.8.26.
- Кудашов А.С. К вопросу о культурном статусе ранненеолитических памятников лесного Среднего Поволжья // Археология Евразийских степей. 2024. № 6. С. 52–59. doi: 10.24852/2587-6112.2024.6.52.59.
- Васильева И.Н., Выборнов А.А. Некоторые аспекты изучения неолита Марийского Поволжья // Вопросы археологии эпохи камня и бронзы в Среднем Поволжье и Волго-Камье. Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2015. С. 68–98.
Supplementary files