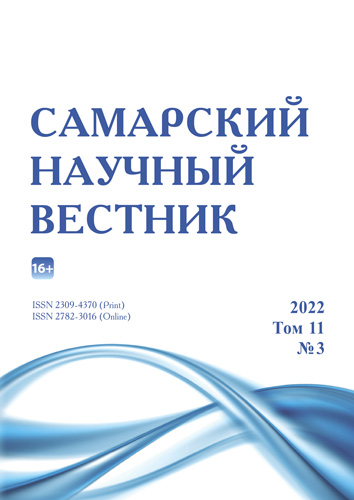Cultural and educational work in the Red Army in the 1920s – June 1941: the late Soviet historiography of the problem (a brief historiographical review)
- Authors: Tribunsky S.A.1
-
Affiliations:
- Samara National Research University
- Issue: Vol 11, No 3 (2022)
- Pages: 185-191
- Section: Historical Sciences
- URL: https://snv63.ru/2309-4370/article/view/114897
- DOI: https://doi.org/10.55355/snv2022113208
- ID: 114897
Cite item
Full Text
Abstract
The researcher has revealed late Soviet historiography of the problem of cultural and educational work in the Workers and Peasants’ Red Army (Red Army) in the 1920s – June 1941. Such a scientific task is solved in the format of a brief historiographical review. In this case, the late Soviet historiography refers to an array of Soviet historiographical sources published in the second half of the 1980s – 1991, that is, during the so-called Gorbachev’s perestroika. The author of this brief historiographical review proceeded from the fact that in the conditional historiographical period, the chronological framework of which is indicated above, a certain number of historiographical sources devoted to the history of the Red Army in the 1920s – June 1941 appeared. They reflected, among other things, many aspects of cultural and educational work in the Red Army, which was an integral part of party-political work (moreover, with a relative degree of independence) that became, without a doubt, a unique phenomenon in Soviet military construction and construction of the Armed Forces of the young Soviet state. The authors selected, first of all, a set of historiographical sources having both direct and indirect relation to the topic of cultural and educational work in the Red Army in the 1920s – June 1941. While working with them, the peculiar historical situation that developed in the USSR during Gorbachev’s perestroika was taken into account. Then the general vector of historical development was built – the movement towards the collapse of the USSR. And this circumstance left an indelible imprint on all historiographical sources, which reflect (to one degree or another) the problem being subjected to a brief historiographical review. Such historiographical sources today require comprehension and rethinking from the standpoint of new theoretical and methodological approaches that have established themselves in modern Russian historical science.
Full Text
Подлинная научная историография занимается не пассивным собирательством и склеиванием источников, а постановкой проблем, которые наполняют картину новым смыслом, содержанием
А.Дж. Коллингвуд [1]
Введение
В поздней советской историографии, то есть в историографии периода так называемой горбачёвской перестройки (вторая половина 1980-х – 1991 г.), нашла отражение, в том числе, и проблема культурно-просветительной работы в Красной армии в 1920-е – июне 1941 г.
Объектом исследования своего краткого историографического обзора автор избрал позднюю советскую историографию вопросов культурно-просветительной работы в Красной армии в 1920-е – 1941 г., которая материализовалась в определенном количестве опубликованных историографических источников.
Предмет исследования: сложившаяся советская исследовательская историографическая традиция изучения обозреваемой темы, анализ процесса накопления и приращения исторических знаний по ней в историографических источниках, выпущенных в свет во второй половине 1980-х – 1991 г.
Хронологические рамки исследования определены с учетом актуальности проблемы и в соответствии с замыслом настоящего краткого историографического обзора. Хронологические рамки анализируемых историографических источников ограничены 1920-ми – июнем 1941 г. Хронологические рамки самого краткого историографического обзора охватывают период со второй половины 1980-х до 1991 г. Это период так называемой горбачёвской перестройки. Данный временной отрезок классифицируется в качестве условного историографического периода.
В работе освещен (в формате краткого историографического обзора) комплекс соответствующих историографических источников, то есть традиционные исторические источники, вовлеченные в процесс историографического анализа, результаты которого нашли отражение в различного рода научной, научно-популярной, публицистической литературе (монографии, книги, брошюры, статьи) [2, с. 501–509]. В обозреваемых историографических источниках нашли отражение те или иные аскеты культурно-просветительной работы в РККА. Той самой культурно-просветительной работы, представлявшей собой систему мероприятий, проводимых командирами, политорганами, партийными и комсомольскими организациями по коммунистическому воспитанию и политическому просвещению личного состава, удовлетворению духовных запросов и организации досуга военнослужащих Красной армии [3]. При этом важно подчеркнуть, что культурно-просветительная работа, хотя и имела некоторую долю самостоятельности, являлась составной частью партийно-политической работы в Вооруженных силах Советского государства, то есть идеологической и организаторской деятельности военных советов, командиров, политорганов, партийных организаций Советской армии и Военно-морского флота (СА и ВМФ), которая являлась составной частью руководства Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) вооруженными силами и рассматривалась в качестве теории и практики воспитания военнослужащих, организовывалась и проводилась как система мероприятий по реализации политики КПСС в СА и ВМФ [4, с. 683–684].
Данный краткий историографический обзор методологически выстроен по алгоритму, в который вошли два диалектически взаимосвязанные части. 1) Наличие в современной российской исторической науке так называемого методологического плюралистического многоголосия [5, с. 103–111; 6, с. 3–20; 7, с. 676–688; 8, с. 222–228]. Это потребовало от исследователя: отдать приоритет рационализму в процессе историко-научного и в том числе историографического познания [9, с. 150–153]; признать закономерность и необходимость перехода от эмпирического уровня в познании исторического и историко-познавательного процесса к теоретическому уровню его понимания и объяснения [10, с. 245–258]. 2) Специфика проблемно-тематического исследования, которая разработана современными отечественными историографами [11, с. 184–195; 12, с. 38–42; 13, с. 270–278] (всемерно учтена автором данной статьи).
Автор настоящего историографического обзора исходил из того, что проблема культурно-просветительской работы в Красной армии (1920-е – июнь 1941 г.) имеет историю ее изучения. Следовательно, необходимо опираться при обзоре поздней советской историографии на историографические наработки предшественников [14; 15, с. 118–135; 16, с. 156–167; 17, с. 40–42; 18, с. 37–38; 19, с. 161–169; 20, с. 75–78]. Опираясь на них, исследователь стремился обеспечить бережное и корректное отношение к историографическим наработкам предшественников. Но такой подход не девальвировал и процесс их критического осмысления и переосмысления.
Основная часть
Не представляется возможным разработать качественный историографический обзор по рассматриваемой теме, если не учесть, что в поздней советской историографии – историографии периода перестройки – сложилась уникальная историографическая ситуация. Она детерминировалась, в первую очередь, общим вектором социально-экономического, политического, духовного движения СССР: от так называемой перестройки (ее ядро составили реформы М.С. Горбачёва, явившиеся в конечном итоге паллиативными [21; 22]) к распаду СССР – этой величайшей геополитической катастрофы в истории мировых цивилизаций в конце XX века [23]. На подобном историческом фоне начался в поздней советской историографии процесс трансформации исторического знания. В итоге он привел к кризису советской исторической науки [24, с. 21–35], как одному из выражений общего глубинного кризиса в Советском государстве. В целом и эта констатация представляется важной, уникальность обозреваемого условного историографического периода относительно подробно исследована в современной российской исторической науке [25, с. 199–234; 26, с. 41–56; 27, с. 190–194; 28]. Поэтому приведем только мнение Г.М. Ипполитова и С.Н. Полторака, в котором, как видится автору настоящего историографического обзора, отмечены наиболее характерные черты поздней советской историографии (периода перестройки). Ученые посчитали, что в то время произошло зарождение новых подходов в советской исторической науке. Причем данный процесс «постепенно выходит за рамки методологии догматизированного марксизма в большевистском его измерении (ленинизм), адаптированного идеологами правившей в стране компартии для нужд политического режима советской власти. Но это происходит на фоне жесткой борьбы старого и нового». И хотя в период перестройки новые подходы в советской исторической науке зародились, что само по себе не могло не оказать положительного влияния на историографию, нельзя не заметить, что в целом «историография рассматриваемой проблемы – историография зачаточных тенденций, нереализованных планов. Впрочем, как и вся горбачёвская перестройка» [29, с. 44].
Если же вести речь об истории изучения именно проблемы культурно-просветительной работы в Красной армии в 1920-е – июне 1941 гг. – в период так называемой горбачёвской перестройки, то приходится констатировать, что в распоряжении исследователей имелась соответствующая источниковая база (и это представляется принципиальным):
- во-первых, властные структуры резко облегчили доступ к архивохранилищам всех советских архивов. Более того, в них начался процесс рассекречивания документов и материалов [30, с. 37–41; 31, с. 77–88];
- во-вторых, были опубликованы некоторые документы, имеющие отношение к истории РККА в 1920-х – июне 1941 г. [32, с. 48–80; 33, с. 186–192; 34], в том числе и к ряду аспектов рассматриваемой темы [35, с. 192–201; 36, с. 191–196]. Причем такие опубликованные документы были хорошо обработаны в археографическом отношении;
- в-третьих, были изданы отдельной книгой документы и материалы, посвященные жизни и деятельности М.В. Фрунзе под символическим названием «Неизвестное и забытое». Сюда вошли публицистика, мемуары, документы, письма, отражающие многогранную деятельность М.В. Фрунзе, в том числе и в 1921–1925 гг. [37];
- в-четвертых, был издан и ряд эго-документов, в которых нашли отражение и отдельные аспекты политической работы в боевой обстановке [38]. Например, это воспоминания В.Ф. Воротникова, полковника в отставке, адъютанта Г.К. Жукова во время боев на Халхин-Голе [39];
- в-пятых, был выпущен в свет ряд научно-справочных и научно-библиографических изданий (правда, небольшое количество) [40–43].
В процессе разработки настоящего краткого историографического обзора его автор пришел к такому заключению: различные аспекты проблемы культурно-просветительной работы РККА в хронологических рамках, указанных выше, нашли фрагментарное (причем до предела сжатое) отражение в фундаментальном обобщающем труде Д.Т. Язова, тогда министра обороны СССР. Он посвящен героической истории Вооруженных сил СССР, в том числе и в 1920-е – июне 1941 г. [44]. Правда, в книге отсутствует научно-справочный аппарат, что, безусловно, снижает ее научную весомость. Но, с другой стороны, ее автор – крупный руководящий партийно-государственный деятель Союза СССР. И теперь ясно, что в подготовке этой книги участвовали профессионалы-историки, что повышает степень ее научной значимости. Следовательно, для изучения рассматриваемой темы фундаментальный обобщающий труд Д.Т. Язова имеет некоторую научную значимость. Так же, как и фундаментальный обобщающий труд руководящего политработника – первого заместителя начальника Главного Политического управления СА и ВМФ А.И. Сорокина [45] и другой коллективный фундаментальный обобщающий труд, выполненный под его (А.И. Сорокина) редакцией [46].
Имеется также до предела обобщенный, фрагментарный, в чем-то, быть может, схематичный материал по проблеме культурно-просветительной работы в Красной армии в первые три года после окончания фронтовой Гражданской войны в России (1920 г.), когда начался сложный процесс ее перевода с военного на мирное положение, в коллективной работе, посвященной деятельности Революционного военного совета Республики [47]. Несколько подробнее наша тема освещена еще в одном фундаментальном обобщающем труде, предметом исследования которого стало развитие тыла Советских Вооруженных Сил в 1918–1988 гг. [48]. Материал, имеющий опосредованное значение для отдельных аспектов темы культурно-просветительной работы РККА в 1920-е – июне 1941 г., содержится и в сборнике статей Маршала Советского союза А.М. Василевского [49], а также в статье руководящего политработника – члена Военного совета – начальника политического управления Сухопутных войск Н.А. Моисеева [50, с. 3–15].
Заслуживают быть отдельно упомянутыми две специальные монографии О.В. Золотарева, объектом исследования которых стала культурно-просветительная работа в Вооруженных силах Советского государства. В первой из них ученый размышляет о том, как достичь гармонии единства дисциплины, культуры и искусства в армейских условиях. И с целью решения такой научной проблемы он обращается к историческому опыту культурно-просветительной работы, накопленному в Вооруженных силах Советского государства на различных этапах его развития. Причем автор акцентирует внимание на конкретных формах и методах деятельности, которую он исследует. В то же время приходится констатировать, что О.В. Золотарев периоду 1920-х – июня 1941 г. уделяет внимания немного, так как приоритетом он избрал преимущественно послевоенную историю СА и ВМФ. Не избежал автор монографии перенасыщения ее отдельных фрагментов и сюжетов цитатами из произведений В.И. Ленина и партийных документов [51].
В другой своей монографии ученый освещает проблему, как посредством культурно-просветительной работы положительно воздействовать на чувства и разум советских воинов. Автор, развивая советскую историографическую традицию, утверждает, что культурно-просветительная работа есть составная часть партийно-политической работы в Вооруженных силах Советского государства. Он, анализируя ее, дает по тексту исторические экскурсы, в том числе и 1920-е – июнь 1941 г., причем кратко раскрывая формы и методы культурно-просветительной работы. Но такие фрагменты и сюжеты не проходят у О.В. Золотарева по разряду приоритетных [52]. При этом особенно подчеркнем, что в этой монографии автор избежал перенасыщения ее отдельных фрагментов и сюжетов цитатами из произведений В.И. Ленина и партийных документов. Заметим, что вплотную к монографиям, подвергнутым историографическому обзору выше, примыкает и научно-популярная брошюра О.В. Золотарева [53].
Тема, рассматриваемая автором, нашла отражение в специальных монографиях, статьях, защищенных диссертациях, выполненных в историко-партийном ключе (здесь налицо продолжение традиции советской историографии на более ранних, чем указанных в настоящей статье, периодах). Например, Р.С. Мулюков обобщил исторический опыт КПСС, накопленный в процессе строительства политических органов и партийных организаций в РККА в 1921–1941 гг. Он заострил внимание, судя по текстологическому анализу его монографии, на том, как политорганы и партийные организации осуществляли партийное руководство культурно-просветительной работой в Красной армии, в частности в плане повышения эффективности деятельности армейских культурно-просветительных учреждений, а также подбора кадра культпросветработников, наращивания материально-технической базы культурно-просветительной работы в войсках. Но на конкретных формах и методах культурно-просветительной работы Р.С. Мулюков внимания не акцентировал. Следует также заметить следующее обстоятельство: в связи с тем, что монография выполнена в историко-партийном ключе, она перенасыщена цитатами В.И. Ленина, из партийных документов (причем их объем значительно больше, нежели в монографиях О.В. Золотарева, освещенных выше). Но ученый пытается все-таки анализировать данные документы, а не использовать их сугубо иллюстративным методом [54].
В статье В.Н. Волковинского представлен краткий анализ партийно-политической работы в Красной армии, которую проводил М.В. Фрунзе в 1921–1924 гг. Автор размышляет, в том числе, и о вкладе М.В. Фрунзе в проблему решения ликвидации неграмотности в красноармейской массе, удовлетворения культурных запросов и нужд военнослужащих РККА. Он особенно подчеркивает, что все это проходило в сложных условиях послевоенной разрухи и перевода Вооруженных сил Советского государства с военного на мирное положение. Разумеется, автор статьи всецело опирался на работы М.В. Фрунзе, а также и на партийные документы. А вот архивная составляющая источниковой базы этого небольшого исследования невелика [55, с. 116–121].
А. Иовлев освещает в своей статье деятельность Коммунистической партии по укреплению политико-морального состояния Красной Армии в 1928–1932 гг. Методологический алгоритм выполнения данной работы во многом схож с методологическим алгоритмом, по которому выполнена монография Р.С. Мулюкова, освещенная выше. Ученый утверждает, что для повышения уровня политико-морального состояния личного состава РККА использовались возможности, в том числе, и культурно-просветительной работы в качестве органической составной части партийно-политической работы в Красной армии. Но детализации конкретных форм и методов культурно-просветительной работы в РККА, в хронологических рамках, указанных выше, читатель не обнаружит [56, с. 73–79].
В диссертационном исследовании Ф.Г. Кулика обобщен исторический опыт деятельности Коммунистической партии по территориально-милиционному строительству Красной Армии в 1921–1939 гг. В данном контексте уделено внимание раскрытию специфики партийно-политической работы в частях и соединениях РККА, сформированных на принципах территориально-милиционного строительства Вооруженных сил молодого Советского государства. Затрагиваются здесь, правда довольно кратко, и некоторые аспекты культурно-просветительной работы в РККА. Причем Ф.Г. Кулик твердо придерживается советской историографической традиции – полагать, что культурно-просветительная работа является неотъемлемой составной частью партийно-политической работы в Красной армии, хотя и с определенной долей самостоятельности [57].
Раскрыты некоторые аспекты культурно-просветительной работы в Красной армии в комплексе с анализом предмета исследования – партийное руководство институтом заместителей политруков в политическом воспитании личного состава Красной Армии (1938 – окт. 1942 гг.) – и в диссертации А.А. Гончаренко. Например, такой аспект, как обучение заместителей политруков формам и методам удовлетворения культурных запросов красных воинов. Однако такой материал по объему больше сопряжен с периодом Великой Отечественной войны [58].
В.И. Щепетов избрал предметом исследования своей диссертации проблему партийного руководства деятельностью Главполитпросвета по идейно-политическому воспитанию личного состава Красной Армии (1920–1930 гг.). Освещаются здесь и некоторые аспекты роли и места Главполитпросвета в организации культурно-просветительной работы в Красной армии. В частности, критикуется недостаточная активность и оперативность деятельности анализируемой партийно-государственной структуры в удовлетворении культурных запросов и нужд красноармейской массы, особенно в период перевода РККА с военного на мирное положение [59].
В диссертационном исследовании М.П. Кошлакова проанализирована партийно-политическая работа по повышению боевой готовности соединений и частей ПВО в 1929 – июне 1941 гг. Его автор заострил внимание и на отдельных аспектах культурно-просветительной работы в войсках противовоздушной обороны. Он рассматривает ее в качестве составной части партийно-политической работы. Между тем раскрытию конкретных форм и методов именно культурно-просветительной работы, по сравнению с другими направлениями партийно-политической работы, уделено внимания меньше [60]. Примерно такую же оценку можно дать и кандидатским диссертациям В.С. Микадзе [61], В.С. Шутова [62], С.Ф. Снигирева [63], В.И. Форостовца [64].
Общим для всех диссертаций, освещенных выше, является перенасыщение текстов их рукописей цитатами из партийных документов. Но это выглядит закономерным, так как они выполнены в историко-партийном ключе.
Особняком в ряду диссертаций стоит неисторическая научно-квалификационная работа Н.П. Козырева. Автор анализирует (в формате философских размышлений) проблему культурно-просветительной работы в Советских Вооруженных Силах как фактор формирования духовных потребностей воинов. Данная диссертация имеет опосредованное значение (преимущественно в разрезе методологии) для темы, рассматриваемой в настоящем историографическом обзоре [65].
Отличительная черта поздней советской историографии (период перестройки) проблемы культурно-просветительной работы в РККА в 1920-е – июне 1941 г. – обращение к проблематике партийно-политической работы, в том числе и ее составной части – культурно-просветительной работы, в период локальных вооруженных конфликтов. Проблематика представлена на уровне как научных статей, так и диссертационных исследований. Например, В. Стародубцев вынес на суд военно-исторической общественности краткий анализ партийно-политической работы в период боевых действий на Халхин-Голе (1939 г.). Однако проблема именно культурно-просветительной работы освещена автором только обобщенно [66, с. 60–64].
Представляется небезынтересной диссертация Е.Г. Мальцева, предметом исследования которой стала партийно-политическая работа в войсках Красной Армии в период боевых действий по разгрому японских захватчиков на Дальнем Востоке (1938–1939 гг.). В ней проанализированы, в частности, технические аспекты организации партийно-политической работы в войсках действующей армии, в том числе и в сфере культурно-просветительной работы в период боев у озера Хасан (1938) и на Халхин-Голе. В то же время такое смещение акцентов не позволил автору научно-квалификационной работы рассмотреть более подробно содержательную составляющую партийно-политической работы в боевой обстановке, в том числе и в сфере культурно-просветительной работы [67].
В диссертационном исследовании В.И. Маниты проанализирована партийно-политическая работа в соединениях и частях Красной армии при подготовке и в ходе освободительных походов (1939–1940 гг.). Автор научно-квалификационной работы трактует боевые действия РККА на территории Западной Украины, Западной Белоруссии, Бессарабии в 1939–1940 гг. именно как освободительные походы. И в методологической системе координат времени выполнения диссертации (1987 г.) подобная трактовка выглядит закономерной. В.И. Маните удалось раскрыть специфику организации партийно-политической работы при переходе с мирного на военное положение. Он, в частности, раскрыл, как менялось содержание деятельности полковых клубов и библиотек в деле разъяснения личному составу целей и задач боевых действий. Правда, критический аспект здесь выражен недостаточно рельефно [68].
Еще одна отличительная черта поздней советской историографии рассматриваемой проблемы – попытки ее собственно историографического осмысления. Но не по-целевому, а в комплексе с другими аспектами партийно-политической работы. И что особенно принципиально подчеркнуть, попытки подобного осмысления проходили в историко-партийном ключе. Они реализовывались в специальной монографии [69] и диссертационных исследованиях [70; 71].
Проблема культурно-просветительной работы в РККА в хронологических рамках, указанных выше, нашла некоторое отражение и в учебном пособии для высших военно-политических училищ. Стиль подачи материалов в нем характерен для советских изданий подобного рода – аналитических фрагментов – меньше; обобщающих суждений и рекомендаций – больше [72].
Выводы
Небольшое историографическое исследование, выполненное в формате историографического обзора, показало следующее:
- Во-первых, историографических источников, имеющих как непосредственное, так и опосредованное отношение к проблеме культурно-просветительной работы в Красной армии в 1920-е – июне 1941 гг., в поздней советской историографии выпустили в свет не очень много (по сравнению с советской историографией более ранних периодов). На их содержание наложили неизгладимый отпечаток реалии горбачёвской перестройки. В частности, процесс трансформации исторического знания, приведший в конечном итоге к кризису советской исторической науки как составной части общего кризиса СССР, двигавшегося в направлении своего распада. При этом необходимо особенно подчеркнуть, что в поздней советской историографии историко-партийный ключ выполнения исследований по теме, указанной выше, являлся доминирующим.
- Во-вторых, литература по рассматриваемой теме стала несколько богаче в содержательном плане (по сравнению с предыдущей советской историографией). Это стало во многом возможным потому, что в распоряжении исследователей появились рассекреченные архивные документы и материалы.
- В-третьих, в поздней советской историографии получила дальнейшее развитие советская историографическая традиция – рассматривать культурно-просветительную работу в качестве составной части партийно-политической работы в Вооруженных силах Советского государства (хотя и с относительной долей самостоятельности). В конечном итоге рассматриваемая проблема нашла отражение в различного рода историографических источниках: крупных фундаментальных обобщающих трудах по истории Вооруженных сил СССР, специальных монографиях, статьях, диссертационных исследованиях, учебных изданиях. В них нашли отражение многие аспекты темы, означенной в заглавии настоящего историографического обзора. Причем применительно к условиям как мирного времени, так и боевой обстановки. В то же время нельзя не отметить, что литературы, посвященной целевому анализу именно проблемы культурно-просветительной работы в РККА в 1920-е – июне 1941 г., издано немного.
- В-четвертых, имели место попытки собственно историографического осмысления темы, которой посвящен настоящий историографический обзор. Они проходили в комплексе с историографическим осмыслением других аспектов партийно-политической работы, причем в сугубо историко-партийном ключе.
Таким образом, проблема культурно-просветительной работы в РККА в 1920-е – июне 1941 гг. получила соответствующую научную разработку. И данная историография представляет для современных специалистов повышенный интерес. Но анализировать ее необходимо с позиций новых теоретико-методологических подходов, утвердившихся в отечественной исторической науке на современном этапе ее развития.
About the authors
Sergey Aleksandrovich Tribunsky
Samara National Research University
Author for correspondence.
Email: ser.6791@yandex.ru
candidate of historical sciences, associate professor of Russian History Department
Russian Federation, SamaraReferences
- Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография / пер. Ю.А. Асеева. М.: Наука, 1980. 485 с.
- Ипполитов Г.М. Классификация источников в проблемно-тематических историографических исследованиях и некоторые методологические подходы к их анализу // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2011. Т. 13, № 3 (2). С. 501–509.
- Словарь военных терминов / сост. А.М. Плехов. М.: Воениздат, 1988. 335 с.
- Партийно-политическая работа в Вооруженных силах СССР // Военный энциклопедический словарь. М.: Эксмо, 2007. С. 683–684.
- Филатов Т.В. Неопределенность и изменчивость прошлого // Философия культуры – 96: сб. науч. ст. Самара, 1996. С. 103–113.
- Сахаров А.Н. О новых подходах к истории России // Вопросы истории. 2002. № 8. С. 3–20.
- Ипполитов Г.М. Объективность исторических исследований. Достижима ли она? Дискуссионные заметки // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2006. Т. 8, № 3. С. 676–688.
- Ипполитов Г.М. О новых подходах к освещению советского периода российской истории (на примере Гражданской войны в России) // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2011. Т. 13, № 3 (41). С. 222–228.
- Мингулов Х.И., Филатов Т.В., Ходыкин В.В. Формирование фундаментальной базы рационального мышления: постановка проблемы // Международный научно-исследовательский журнал. 2017. № 3–1 (57). С. 150–153. doi: 10.23670/irj.2017.57.117.
- Султанова Л.Б. Закономерности развития научного познания // Российский гуманитарный журнал. 2018. Т. 7, № 4. С. 245–259. doi: 10.15643/libartrus-2018.4.1.
- Ипполитов Г.М. Историографический факт и историографический источник как категории исторической науки: непростая диалектика // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2013. Т. 15, № 1. С. 184–195.
- Камынин В.Д. К вопросу о методике современного историографического исследования // Историческая наука и образование в условиях современных вызовов. Казань: Казанский ун-т, 2012. С. 38–42.
- Камынин В.Д. «Проблемная историография» в 1990-е – первые годы XXI в.: исследовательский опыт и перспективы развития // Исторический опыт в меняющемся пространстве культуры: сб. ст., подг. по мат-лам всерос. науч. конф. Челябинск: Каменный пояс, 2006. С. 270–278.
- Хачатурян М.В. Деятельность государственных органов по правовому воспитанию военнослужащих России (1918–2000 гг.): историографическое исследование: дис. … д-ра ист. наук: 07.00.09. М., 2002. 505 с.
- Македонский А.В. Культурно-просветительная работа в Красной Армии (1921 – июнь 1941 гг.): историография вопроса // Гуманитарные науки в техническом вузе: сб. науч. ст. М.: Экслибрис-Пресс, 2004. С. 118–135.
- Посвятенко О.Н. Политическое воспитание военнослужащих Красной армии в 1918–1923 гг.: обзор советской историографии 1920-х – второй половины 1960-х гг. // Право и образование. 2005. № 6. С. 156–167.
- Азарова А.В. Патриотическое воспитание военнослужащих в 1918–1991 гг.: анализ историографических источников // Вестник Екатерининского института. 2010. № 1. С. 40–42.
- Бобкова Е.Ю. Политическое воспитание личного состава вооруженных сил советского государства: к истории изучения проблемы в первом десятилетии ХХI в. (историографический обзор монографических и диссертационных исследований) // Клио. 2010. № 3. С. 37–38.
- Бобкова Е.Ю. Отечественные историографические исследования начала 1990-х гг., посвященные проблемам истории Советского общества 1917–1941 гг. // Известия Петербургского университета путей сообщения. 2012. № 2 (31). С. 161–169.
- Бобкова Е.Ю. Проблемы изучения отдельных аспектов политического воспитания военнослужащих в начале второго десятилетия XXI века: краткое историко-библиографическое исследование // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: Гуманитарные науки. 2013. № 7–8. С. 75–78.
- КПСС о перестройке: сб. документов. М.: Политиздат, 1988. 479 с.
- Шубин А.В. Парадоксы перестройки: упущенный шанс СССР. М.: Вече, 2005. 320 с.
- Распад СССР: Документы и факты (1986–1992): Т. II: Архивные документы и материалы. 2-е изд. / под общ. ред. С.М. Шахрая. М.: Кучково поле, 2016. 824 с.
- Гуревич А.Я. О кризисе современной исторической науки // Вопросы истории. 1991. № 2–3. С. 21–36.
- Чечель И.Д. Исторические представления советского общества эпохи перестройки // Образы историографии: сб. ст. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2001. С. 199–234.
- Советское общество 1985–1991 гг.: новое изучение истории // Историческое знание в современной России: дискуссии и поиски новых подходов. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 2005. С. 41–56.
- Морозов С.Д. Историческая наука в эпоху перестройки // Региональная архитектура и строительство. 2011. № 1. С. 190–194.
- Петропавловская Е.М. Проблемы отечественной истории в литературно-художественных и общественно-политических журналах «Знамя», «Новый мир», «Октябрь» 1985–1991 годов (структурно-тематический анализ): дис. … канд. ист. наук: 07.00.09. Нижний Новгород, 2008. 258 с.
- Ипполитов Г.М., Полторак С.Н. Проблематика истории российской Гражданской войны в советской историографии периода перестройки (вторая половина 1980-х – 1991 гг.) // Клио. 2018. № 6 (138). С. 36–44.
- Решение Коллегии Главного архивного управления при Кабинете Министров СССР от 14 июля 1991 г. «Об опыте работы архивных учреждений по оптимизации состава документов ГАФ СССР в 1986–1990 гг.» // Научно-информационный бюллетень. 1991. № 7. С. 37–41.
- Иноземцева З.П. Перестройка в комплектовании государственных архивов. Сущность, реализация, осмысление (Российская Федерация, 1960–1980-е гг.) // История и архивы. 2019. № 1. С. 77–88.
- Дело так называемой «антисоветской троцкистской военной оппозиции в Красной Армии»: справка Ком. Гос. безопасности СССР, Ген. прокуратуры СССР и Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС // Известия ЦК КПСС. 1989. № 4. С. 48–80.
- Из отчета начальника Управления по начальствующему составу РККА Народного комиссариата обороны СССР Е.А. Щаденко // Известия ЦК КПСС. 1990. № 1. С. 186–192.
- Халхин-Гол: сборник фотодокументов и материалов. Улан-Батор, 1989. 74 с.
- О работе Политуправления РККА за период с 1938 г.: доклад Л.З. Мехлиса от 23 мая 1940 г. // Известия ЦК КПСС. 1990. № 3. С. 192–201.
- О состоянии военной пропаганды среди населения: из докл. зап. ГУППКА ЦК ВКП(б), янв. 1941 г. // Известия ЦК КПСС. 1990. № 5. С. 191–196.
- Фрунзе М.В. Неизвестное и забытое: публицистика, мемуары, документы, письма. М.: Наука, 1991. 271 с.
- На Халхин-Голе. Воспоминания ленинградцев-участников боёв с японскими милитаристами в районе реки Халхин-Гол в 1939 г. / сост. Н.М. Румянцев. Л.: Лениздат, 1989. 250 с.
- Воротников М.Ф. Г.К. Жуков на Халхин-Голе / науч. конс. Г.К. Плотников. Омск: Книжное изд-во, 1989. 224 с.
- Советские Вооруженные Силы: Вопросы и ответы. Л.: Политиздат, 1987. 415 с.
- Словарь по партийному строительству. М.: Политиздат, 1987. 365 с.
- Военные вопросы в решениях КПСС. 2-е изд., доп. М.: ВПА им. В.И. Ленина, 1989. 404 с.
- Библиографический указатель материалов, опубликованных в журнале «Советские архивы» (1966–1986 гг.) / сост. С.И. Кузьмин. М.: Журнал «Советские архивы», 1989. 307 с.
- Язов Д.Т. Верны Отчизне. М.: Воениздат 352 с.
- Сорокин А.И. Армия советского народа. М.: Воениздат, 1987. 192 с.
- Советские Вооруженные Силы на страже мира и социализма / под общ. ред. А.И. Сорокина. М.: Наука, 1988. 349 с.
- Реввоенсовет Республики. 6 сентября 1918 г. – 28 августа 1923 г. М.: Политиздат, 1991. 464 с.
- Развитие тыла Советских Вооруженных Сил, 1918–1988. М.: Воениздат, 1989. 310 с.
- Василевский А.М. О дисциплине и воинском воспитании: сб. ст. М.: Воениздат, 1987. 100 с.
- Моисеев Н.А. Политорганы: лицом к человеку // Военный вестник. 1990. № 6. С. 3–15.
- Золотарев О.В. Гармония единства дисциплины, культуры и искусства. Львов: ЛВВПУ, 1988. 154 с.
- Золотарев О.В. К чувствам и разуму воина: культпросветработа: взгляд, поиск, проблемы. М.: Воениздат, 1991. 222 с.
- Золотарев О.В. Армия и культура. М.: Знание, 1991. 57 с.
- Мулюков Р.С. Исторический опыт Коммунистической партии в строительстве политорганов и партийных организаций в Красной Армии (1921–1941 гг.). М.: ВПА, 1989. 216 с.
- Волковинский В.Н. Партийно-политическая работа М.В. Фрунзе в 1921–1924 гг. // Вопросы истории КПСС. 1985. № 3. С. 116–121.
- Иовлев А. Деятельность Коммунистической партии по укреплению политико-морального состояния Красной Армии (1928–1932 гг.) // Военно-исторический журнал. 1989. № 6. С. 73–79.
- Кулик Ф.Г. Исторический опыт Коммунистической партии по территориально-милиционному строительству Красной Армии (1921–1939 гг.): дис. … канд. ист. наук: 07.00.01. М., 1988. 244 с.
- Гонтаренко A.A. Партийное руководство институтом заместителей политруков в политическом воспитании личного состава Красной Армии (1938 – октябрь 1942 гг.): дис. … канд. ист. наук: 07.00.01. М., 1990. 226 с.
- Щепетев В.И. Партийное руководство деятельностью Главполитпросвета по идейно-политическому воспитанию личного состава Красной Армии (1920–1930 гг.): дис. … канд. ист. наук: 07.00.01. М., 1989. 208 с.
- Кошлаков М.П. Партийно-политическая работа по повышению боевой готовности соединений и частей ПВО (1929 – июнь 1941 гг.): дис. … канд. ист. наук: 07.00.01. М., 1987. 246 с.
- Микадзе В.С. Деятельность Коммунистической партии по интернациональному воспитанию воинов Красной Армии: 1921–1928 гг.: дис. … канд. ист. наук: 07.00.01. М., 1985. 219 с.
- Шутов B.C. Деятельность Коммунистической партии по разоблачению агрессивной сущности японского милитаризма и воспитанию политической бдительности у личного состава армии и флота. (1931 – июнь 1941 гг.): дис. … канд. ист. наук. М., 1990. 231 с.
- Снигирев С.Ф. Деятельность Коммунистической партии по воспитанию коммунистов РККА в духе традиций большевиков (1918–1936 гг.): дис. … канд. ист. наук: 07.00.01. М., 1989. 222 с.
- Форостовец В.И. Деятельность Коммунистической партии по воспитанию у личного состава Красной Армии классовой ненависти к империалистическим агрессорам (1928 – июнь 1941 гг.): дис. … канд. ист. наук: 07.00.01. М., 1986. 260 с.
- Козырев Н.П. Культурно-просветительная работа в Советских Вооруженных Силах как фактор формирования духовных потребностей воинов: дис. … канд. филос. наук: 09.00.02. М., 1990. 277 с.
- Стародубцев В. Партийно-политическая работа в период боевых действий на Халхин-Голе // Военно-исторический журнал. 1990. № 5. С. 60–64.
- Мальцев Е.Г. Партийно-политическая работа в войсках Красной Армии в период боевых действий по разгрому японских захватчиков на Дальнем Востоке (1938–1939 гг.): дис. … канд. ист. наук: 07.00.01. М., 1986. 211 с.
- Манита В.И. Партийно-политическая работа в соединениях и частях Красной Армии при подготовке и в ходе освободительных походов (1939–1940 гг.): дис. … канд. ист. наук. М., 1987. 252 с.
- Рыбников В.В. Деятельность КПСС по интернациональному воспитанию советских воинов: историографическое исследование. М.: ВПА, 1986. 197 с.
- Крупнов И.Н. Партийное руководство идеологической работой в армии и на флоте в период строительства социализма 1921 – июнь 1941 гг. Историография проблемы: дис. … канд. ист. наук: 07.00.09. М., 1988. 285 с.
- Терехов В.Ф. Деятельность Коммунистической партии по патриотическому воспитанию воинов Красной Армии (1921–1941 гг.): историографическое исследование: дис. … канд. ист. наук: 07.00.09. М., 1990. 218 с.
- Партийно-политическая работа в Вооруженных Силах СССР: учеб. пособие. М.: Воениздат, 1989. 407 с.
Supplementary files