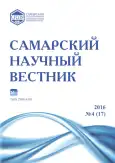Крупнотарные сосуды бронзового века Турганикского поселения в Оренбургской области
- Авторы: Салугина Н.П.1, Моргунова Н.Л.2, Турецкий М.А.3
-
Учреждения:
- Самарский государственный институт культуры
- Оренбургский государственный педагогический университет
- Поволжский филиал Института российской истории РАН
- Выпуск: Том 5, № 4 (2016)
- Страницы: 91-98
- Раздел: 07.00.00 – исторические науки и археология
- URL: https://snv63.ru/2309-4370/article/view/22157
- DOI: https://doi.org/10.17816/snv20164204
- ID: 22157
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В керамической коллекции Турганикского поселения в Оренбургской области выделяется группа керамики эпохи бронзы, которая по своим морфологическим и технологическим показателям резко выделяется из основной группы посуды. Это сосуды крупных размеров с массивными венчиками и раздутым туловом. Авторы условно назвали эти сосуды хумами. Задачей данного исследования является попытка определить культурно-хронологическую позицию указанной группы посуды в системе древностей раннего - среднего бронзового века. Внутри этой группы авторы выделяют два типа. Основанием для выделения типов послужили особенности оформления верхней части сосудов. К первому типу отнесена керамика с Турганикского поселения и сосуд из курганного могильника Переволоцкий I. Морфологические и технологические особенности, а также серия радиоуглеродных дат позволили отнести эти сосуды ко времени начала формирования ямной культуры в Волго-Уральском регионе (репинский этап). Авторы предполагают, что появление здесь подобных сосудов является подражанием майкопскому гончарству. Это могло быть проникновение малых групп мастеров или активизация контактов с предкавказским населением. Второй тип керамики с Турганикского поселения находит аналогии в курганном могильнике Кардаиловский I (курган 1, погребение 3) в Оренбургской области, в Северном Прикаспии, бассейне р. Самары, Прикубанье и в Поднепровье. Исследователи отмечают немногочисленность и оригинальность данной посуды. Хронологическая и культурная позиция таких сосудов определяется в пределах III тыс. до н.э. (в калиброванных значениях).
Ключевые слова
Полный текст
Исследования Турганикского поселения на реке Ток в западной части Оренбургской области начались в начале 80-х годов XX в. [1, с. 58–78]. В 2014–2015 гг. с целью выяснения культурной и хронологической принадлежности материалов бронзового века, происходивших из верхнего культурного слоя, раскопки поселения были продолжены. Керамика из этого слоя предположительно была отнесена к РБВ и, таким образом, по хронологии и в культурном плане она была синхронизирована и связана с ранним (репинским) горизонтом ямной культуры, что позволили сделать первые ¹⁴С даты, полученные по фрагментам керамики [2, с. 25, табл. 9; 3, с. 181]. Новые ¹⁴С даты, полученные по костям животных, подтвердили это заключение [4, с. 119].
Керамика бронзового века характеризуется толстостенностью и визуально хорошо заметными включениями раковины [5, с. 121]. Всего найдено немногим более 2000 фрагментов керамики эпохи бронзы. По способу обработки поверхностей она подразделяется на 2 группы. Для первой, более многочисленной, типичным признаком является заглаживание внешней и внутренней поверхностей сосудов с помощью крупнозубчатых гребенчатых штампов в виде расчесов в разных направлениях − в «паркетном» стиле. Посуда представлена горшковидными и баночными формами, орнаментированными веревочкой, гребенчатыми штампами, ямочными вдавлениями, значительная часть ее не орнаментирована. Поскольку в коллекции отсутствуют плоские днища, видимо, посуда была круглодонной. Найдено одно круглое днище с крупными расчесами. Технологический анализ, проведенный по методике А.А. Бобринского [6], показал разнообразие в навыках отбора исходного сырья и составления формовочных масс. Большинство неорнаментированной посуды с расчесами изготовлено из глины разной степени запесоченности, к которой добавлялась либо дробленая раковина и органический раствор, либо шамот, дробленая раковина и органический раствор. Вторая группа представлена сосудами со слегка бугристыми поверхностями, без расчесов. Форма сосудов: слабо профилированная горшковидная или баночная [7, с. 60–70].
В первой группе выделяются крупные толстостенные горшки типа хумов с сильно отогнутыми и утолщенными венчиками. Внутренние поверхности сосудов и срезы венчиков заглажены крупнозубчатым гребенчатым штампом. Поскольку полная реконструкция сосудов невозможна, то судить об обработке внешней поверхности затруднительно. Однако, судя по найденным совместно с венчиками большим количеством стенок сосудов, заглаженных с обеих сторон крупнозубчатым штампом, можно предполагать, что внешняя поверхность также обрабатывалась аналогично.
В данной статье особое внимание уделено именно этой группе сосудов. Внутри указанной группы посуды выделяется два типа по особенностям оформления венчиков: 1) срез венчика плоский или слегка округлый, иногда немного скошен внутрь, с внутренней стороны наблюдается плавная линия перехода от венчика к тулову. При переходе от венчика к тулову сформирована невысокая (до 4 мм) шейка, примерный диаметр горловины сосудов по внешнему краю венчиков – от 22 до 30 см, ширина плоской поверхности венчиков 2,5–3 см. Керамика не орнаментирована (рис. 1, 1–3); 2) срез венчика довольно резко скошен внутрь, иногда образуя своеобразный выступ – уступ, после чего венчик плавно переходит в тулово. По плоскости венчика и, видимо, по плечикам был нанесен орнамент из разреженных рядов крупных треугольных наколов (рис. 2, 2). Диаметр горловины – 19 см, ширина верхней части венчика 4 см.
Керамика первого типа представлена 12 фрагментами от 4-х сосудов. Все они обнаружены на участках 5, 6 и 9 на уровне 9–10 штыков, т.е. в верхнем культурном слое поселения совместно с основной массой керамики 1 группы. Сосуды изготовлены только из запесоченной глины. Формовочная масса составлена по одному рецепту: дробленая, предварительно нагретая раковина + органический раствор [7, с. 70]. Таким образом, хумы 1 типа на Турганикском поселении, с одной стороны, отличаясь от керамики с расчесами по форме, близки части этой керамики по технологии изготовления. О культурном и, вероятно, хронологическом единстве этой посуды с группой керамики с расчесами свидетельствуют и такие признаки, как способ обработки поверхности, видимо, круглодонность и, прежде всего, радиоуглеродные даты, полученные для слоя с керамикой с расчесами. Важно отметить факт, что единственное круглое днище с расчесами изготовлено в соответствии с емкостно-донной программой конструирования начинов, что характерно для погребальной посуды ямной культуры репинского этапа [8, с. 90]. В свое время А.А. Бобринский отмечал, что данный прием конструирования наиболее распространен на Северном Кавказе и в Закавказье, в частности, он отмечен по материалам двух археологических культур: куро-аракской и майкопской [6, с. 115–116].
Рисунок 1 – Керамика. Хумы 1 типа: 1–3 – Турганикское поселение; 4–6 – Переволоцкий I кург. мог., кург. 7, погр. 2
Учитывая малочисленность данной посуды на фоне общей массы гончарных изделий РБВ на Турганикском поселении, а также ее отличительные особенности, можно предположить, что хумы изготавливались по особой технологии и имели специальное хозяйственное назначение.
Аналогичный по форме сосуд обнаружен в погребении 2 кургана 7 Переволоцкого курганного могильника, относящегося к ямной культуре [9, с. 49–51]. Он имеет массивный, отогнутый наружу венчик и раздутое тулово, по всем поверхностям покрыт расчесами крупного гребенчатого штампа (рис. 1, 4–6). Сосуд отличается от турганикских хумов наличием уплощенного дна и технологией изготовления. Мастерами отбиралась ожелезненная, незапесоченная глина, в состав формовочной массы вводился крупный шамот и органический раствор, возможно, в виде выжимки из навоза. Начин изготовлен в соответствии с донно-емкостной программой, возможно применение формы-модели. Полое тело конструировалось из крупных лоскутов, наращиваемых по спиралевидной траектории. Обе поверхности сосуда заглажены крупным гребенчатым штампом, оставляющим на поверхности расчесы в разных направлениях.
Впервые к интерпретации известного на тот момент единственного венчика сосуда из раскопок Турганикского поселения в 1982 г. обратился С.В. Богданов. Он попытался реконструировать его форму как корчагу и отнес ее к «одной из линий развития майкопско-новосвободненской керамики позднего периода» [10, с. 170]. Автор, на наш взгляд, не достаточно корректно провел реконструкцию сосуда как корчагу с плоским дном, поскольку достоверно связать с венчиком стенки и дно было невозможно. По его мнению, этот сосуд отражает глубокие контакты носителей ямной культуры Волго-Уральских степей и майкопско-новосвободненской культуры… [10, с. 171]. Полученные нами в ходе последних раскопок материалы и сопоставление их с керамикой майкопской культуры [11, с. 22–41, рис. 44–65] не позволяет согласиться с весьма категоричным выводом С.В. Богданова о единой для них генетической линии развития, так как майкопские сосуды, хотя по размерам и отчасти по форме близки турганикским хумам, но совершенно оригинальны в сравнении с последними (техника конструирования с применением гончарного круга, отогнутые без утолщения венчики и др.). Однако заключение автора о возможности синхронного развития обеих традиций подтверждается.
Прежде всего, следует обратиться к радиоуглеродным датам, серийно полученным нами в последнее время как по керамике 1 группы с расчесами, так и по костям животных из слоя РБВ.
Серия радиоуглеродных определений по костям животных из верхнего культурного слоя (шт. 8–10) подтвердила ранее известную дату по керамике с расчесами Турганикского поселения – Кi 15597 4710 ± 80 ВР [3, с. 181]. В целом, для слоя БВ устанавливается интервал от 3700 до 3400 лет ВС, что соответствует известным датам по керамике поселений Кызыл-Хак I и II [2, с. 25], а также других памятников раннеямного (репинского) горизонта и радиокарбонным датам майкопской культуры раннего и среднего диапазона [12, с. 114–115; 4, с. 119].
Керамика второго типа в материалах Турганикского поселения представлена одним сосудом (рис. 2, 2). В качестве исходного сырья для его изготовления отбиралась незапесоченная илистая глина, в формовочную массу вводились не калиброванный шамот, дробленая, предварительно нагретая раковина и органический раствор.
Близкий по форме сосуд происходит из исследованного в 1977 году Н.Л. Моргуновой курганного могильника Кардаиловский I (курган 1, погребение 3). Он был обнаружен во фрагментированном состоянии, его многочисленные обломки встречались в засыпи могильной ямы многоступенчатой конструкции, захоронение в которой не найдено. Судя по сложности ритуала и крупным размерам самого кургана, кострищу на ступенях ямы и отсутствию следов ограбления, данный комплекс являлся сакральным комплексом.
Сосуд очень крупный, с массивным утолщенным венчиком и плоской поверхностью его края шириной 3,5 см. Внешний диаметр горловины 31 см (рис. 2, 1). Ниже венчика суженная невысокая шейка резко переходит в тулово под углом примерно в 45 градусов. В верхней части сосуда на плечиках имеется валик, украшенный с верхней и нижней стороны отпечатками крупнозубчатого штампа. Ниже и выше валика нанесены широкие волнистые линии тем же гребенчатым штампом. Вся поверхность сосуда, а также плоский верх венчика заглажены штампом, оставляющим на внутренней и внешней поверхностях расчесы в разных направлениях. Дно, возможно, было круглым, поскольку фрагменты плоского дна не найдены, несмотря на многочисленность обломков. Автор сочла возможным соотнести данный сосуд с сосудами реповидной формы катакомбной культуры [13, с. 12; 14, с. 11–12, рис. 7]. Сравнение проводилось прежде всего с материалами Подонья [15, с. 82–87]. Однако кардаиловский сосуд отличается от последних формой придонной части, не столь сильно раздутым туловом и отсутствием плоского широкого дна. Сосуд изготовлен из незапесоченной илистой глины, к которой при составлении формовочной массы добавлялись крупный шамот и органический раствор.
Керамика, подобная 2 типу хумов, в единичных экземплярах встречена на широкой территории: в Северном Прикаспии, бассейне р. Самары, Прикубанье и в Поднепровье. Исследователи отмечают необычность данной керамики и пытаются найти ей культурно-хронологическую позицию.
На территории Северного Прикаспия обнаружены два сосуда, близкие по форме изучаемым сосудам [16, с. 125]. Сосуд с поселения Тау-Тюбе орнаментирован в верхней части рядами вертикальных отпечатков ногтя, а ниже – наклонными расчесами. Дно сосуда не сохранилось, поэтому восстановить полную форму невозможно (рис. 2, 4). Сосуд изготовлен из не запесоченной глины, к которой при составлении формовочной массы добавлен крупный шамот и органический раствор, возможно, в виде выжимки из навоза. В составе шамота фиксируется раковина. Сосуд из Досанга плоскодонный, украшенный волнистым налепным валиком, волнистыми и горизонтальными рядами наклонных отпечатков гребенчатого штампа. Орнаментальная композиция состоит из заштрихованных треугольников с бахромой, сплошных полос и горизонтальной елочки (рис. 2, 3). По визуальному определению авторов, в изломе сосуда фиксировалась примесь «толченой раковины». Они считали, что форма данных сосудов сближает их с керамикой предкавказской катакомбной культуры, отмечая, при этом, что она изготовлена полтавкинским населением под определенным воздействием катакомбных племен [16, с. 117, 127].
В бассейне р. Самары подобные сосуды обнаружены в курганах 2 и 7 могильника Красносамарское IV. В кургане 2 развал сосуда найден во время снятия погребенной почвы, в 5,71 м к ЮЮЗ от центра кургана. Примерно восстановленный диаметр сосуда – около 50 см, толщина стенок от 1,1 до 1,5 см. Внешняя и верхняя часть внутренней поверхности сосуда заглажена крупным гребенчатым штампом, отставляющем следы глубоких расчесов. Визуально авторы определили примесь раковины. Орнамент, нанесенный отпечатками перевитого шнура, располагался в верхней части сосуда. Внешняя сторона венчика украшена рядом вертикальных отпечатков. Под венчиком проходит двойной ряд горизонтальных прямых линий, от которых на тулово спускаются вытянутые треугольники, заполненные горизонтальными линиями, и направленные вершинами вниз. Основания треугольников примыкают к горизонтальным линиям (рис. 2, 6). В кургане 7 развал сосуда происходил из насыпи. Внешняя его поверхность заглажена крупным гребенчатым штампом, вероятно, тем же штампом нанесен орнамент в виде беспорядочно нанесенных вертикально-наклонных вдавлений. Для его изготовления отбиралась ожелезненная не запесоченная глина, в которой единично представлен окатанный мелкий песок и оолитовый бурый железняк. Формовочная масса составлена по рецепту: шамот крупный + дробленая раковина + органический раствор, возможно, в виде выжимки из навоза. Сосуд конструировался из коротких жгутов, наращиваемых по спиралевидной траектории, возможно применение формы – модели. Авторы исследования относят эти курганы к началу среднего бронзового века [17, с. 295].
К сожалению, ни прикаспийские, ни самарские памятники с находками керамики с утолщенными венчиками типа хумов не датированы радиоуглеродным методом, а по археологическим данным не имеют четкой хронологической привязки к тому или иному этапу ямной культуры.
Рисунок 2 – Керамика. Хумы 2 типа и их аналогии. 1 – Кардаиловский I кург. мог., кург.1, погр. 3; 2 – Турганикское поселение; 3 – Досанг; 4 – Тау-Тюбе; 5 – Красносамарское IV кург. мог., кург. 7, насыпь; 6 – Красносамарское IV кург. мог., кург. 2, погребенная почва; 7–9 – Михайловское поселение, верхний слой; 10 – Олений, кург. 3, насыпь
Близкие сосуды зафиксированы в новотиторовской культуре Прикубанья. Исследователь данной культуры А.Н. Гей при анализе керамического материала выделяет особую группу 8, тип 8–2: крупные и очень крупные «тарные» сосуды с раздутым туловом и резким отгибом утолщенного или «манжетовидного» венчика [18, с. 144; рис. 44: 11–15]. В составе формовочной массы фиксируется примесь шамота и органика (определения И.А. Гей). Практически все сосуды покрыты крупными расчесами, чаще всего и снаружи, и внутри, орнаментация на них не отмечена. Определение их хронологической позиции очень проблематично. А.Н. Гей пишет, что сосуды этой группы найдены в могилах всех трех этапов новотиторовской культуры. Однако автор сам признает, что выделенные этапы достаточно условны.
И все же А.Н. Гей пытается определить культурно-хронологическую позицию указанных сосудов. Он считает, что: 1) по форме тулова и устройству венчика эти сосуды могут быть сопоставимы с крупными тарными сосудами позднемайкопского или майкопско-новосвободненского круга; 2) характерная раздутость тулова и особенно форма горизонтально отогнутых утолщенных венчиков сближают тип 8–2 с классическими реповидными сосудами позднейших катакомбных памятников Предкавказья, что, с учетом бесспорного хронологического приоритета НТ культуры, позволяет присвоить новотиторовской таре наименование «протореп», видеть в ней прямые прототипы тарной посуды катакомбных племен.
На наш взгляд, в тип 8–2 отнесены очень разнообразные сосуды, и только один из них имеет отношение к рассматриваемой теме – сосуд из насыпи кургана 3 могильника Олений (рис. 2, 10) [18, с. 145, рис. 44: 13]. Учитывая все выше сказанное, сложно однозначно определить культурно-хронологическую позицию данного сосуда, вероятно, его можно датировать в рамках всей новотиторовской культуры [18, с. 198]. Однако хронология НТ культуры не обеспечена абсолютными датами и ее соотношение во времени с другими степными и предкавказскими культурами весьма проблематична. Важным в этой связи представляется тезис А.Н. Гея о ямном компоненте в сложении новотиторовской культуры, он даже выделяет ямно-новотиторовскую группу погребений [18, с. 198–200].
Следует отметить, что до появления новых материалов по Турганикскому поселению и Переволоцкому I курганному могильнику все приведенные выше аналогии рассматривались в работах О.Д. Мочалова и П.Ф. Кузнецова [19, с. 74–75; 17]. Сделав полную сводку крупных реповидных (тарных) сосудов и подробно остановившись на типе 8–2 новотиторовской керамики, авторы предположили, что в ее распространении важную роль сыграл прикубанский импульс в Заволжье и, соответственно, влияние традиций Прикубанья на территорию северо-востока Волго-Уралья [17, с. 293]. В то же время, авторы обращают внимание на ямный компонент в формировании новотиторовской культуры, что выражается в близости некоторых форм керамики новотиторовской культуры (I группа) с ямными сосудами. Они объясняют этот факт уже возможностью прямого взаимодействия указанных культурных групп. Далее, отмечая отсутствие монолитности черт материальной культуры в памятниках новотиторовской культуры, они сопоставляют этот факт уже с полтавкинской культурой [17, с. 294]. Обобщая свои наблюдения, авторы видят первичный источник появления крупных реповидных форм в северокавказском регионе. Из контекста статьи можно предполагать, что они относят рассматриваемую керамику к началу III тыс. до н.э., ко времени позднеямной и раннекатакомбной культур [17, с. 295].
Аналогичные по форме и с подобной орнаментацией сосуды обнаружены в третьем слое Михайловского поселения (рис. 2, 7–9). Исследователи данного поселения относят третий слой к позднеямной культуре. Отмечая сходство данных сосудов с реповидными катакомбными, авторы все же отмечают их значительное различие и полагают, что они «могли предшествовать распространению подобного типа тарной посуды в Предкавказье в позднекатакомбное время [20, рис. XVI; 21, с. 72].
Сравнивая сосуды реповидной формы из погребений раннего бронзового века Поднепровья, Д.Л. Тесленко пришел к выводу о том, что подобные сосуды могли появиться в разных культурно-хронологических центрах, иначе придется ставить вопрос о сосуществовании, по крайней мере, в Правобережье Днепра, ямного и катакомбного населения [22, с. 45–47].
Все авторы, которые обращались к изучению крупной тарной посуды типа хумов, в основном имели дело с приземистыми, так называемыми сосудами «реповидной» формы с широким, значительно превышающим диаметр горловины, дном. Турганикские хумы существенно отличаются от реповидных сосудов из катакомбных памятников.
Исследователи сходятся во мнении, что истоки традиции производства реповидных сосудов в степях Восточной Европы восходят к культурам Северного Предкавказья. В хронологическом и культурном плане подобные находки чаще всего определяются в пределах III тыс. до н.э. (в калиброванных значениях) и соотносятся с новотиторовскими, катакомбными, позднеямными и ямно-катакомбными памятниками. В то же время, в каждом случае отмечаются какие-либо особенности в морфологии этих сосудов. Что касается сравнений в технологии их производства, то по данному параметру это сделать сложно из-за небольшого числа подобных исследований. Можно лишь отметить, что применялось незапесоченное сырье, в виде как природной, так и илистой глины. Обязательным компонентом формовочной массы был шамот и органический раствор, реже – дробленая, предварительно нагретая раковина.
Таким образом, анализ крупнотарной посуды Турганикского поселения склоняет к мысли о местном характере производства сосудов подобного типа и, видимо, об особенном хозяйственном предназначении этой посуды. Судя по типологии турганикских хумов 1-го типа и переволоцкого сосуда, с опорой на радиоуглеродные даты, данные материалы в отличие от реповидных сосудов (хумов 2-го типа) относятся к гораздо более раннему времени, к началу формирования ямной культуры в волго-уральском регионе на ее репинском этапе. Вполне возможно, что появление здесь данной традиции связано с подражанием майкопскому гончарству в связи с импульсом (проникновением малых групп мастеров) или с активизацией контактов с предкавказским населением в период, когда в Приуралье начинается становление местного металлургического центра на базе Каргалинского месторождения медной руды. В конце РБВ или в самом начале СБВ сосуды подобной формы продолжают производиться населением разных культурно-хронологических групп, что проявляется в особенностях форм и технологии изготовления.
Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 14–01–00127 и госзадания Министерства образования и науки РФ № 33.1471.2014.
Об авторах
Наталья Петровна Салугина
Самарский государственный институт культуры
Автор, ответственный за переписку.
Email: nsalug@gmail.com
Кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и истории культуры
Россия, 443010, Самара, ул. Фрунзе, д. 167Нина Леонидовна Моргунова
Оренбургский государственный педагогический университет
Email: nina-morgunova@yandex.ru
Доктор исторических наук, профессор, заведующий археологической лабораторией
Россия, 460014, Оренбург, ул. Советская, д. 19Михаил Александрович Турецкий
Поволжский филиал Института российской истории РАН
Email: maturet@mail.ru
Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник
Россия, 443001, Самара, Студенческий пер., д. 3аСписок литературы
- Моргунова Н.Л. Турганикская стоянка и некоторые проблемы самарской культуры // Эпоха меди Восточной Европы. Куйбышев: Изд-во КГПИ, 1984. С. 58-78.
- Моргунова Н.Л., Выборнов А.А., Ковалюх Н.Н., Скрипкин В.В. Хронологическое соотношение энеолитических культур волго-уральского региона в свете радиоуглеродного датирования // РА. № 4. 2010. С. 19-28.
- Моргунова Н.Л. Приуральская группа памятников в системе волжско-уральского варианта ямной культурно-исторической области. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2014. 348 с.
- Моргунова Н.Л., Турецкий М.А., Кулькова М.А., Нестерова Л.А. Турганикское поселение в южном Приуралье: стратиграфия, планиграфия и радиоуглеродная хронология // Традиции и инновации в изучении древнейшей керамики: материалы международной научной конференции 24-27 мая 2016 г. Санкт-Петербург: ИИМК РАН, 2016. С. 116-120.
- Моргунова Н.Л., Салугина Н.П. Культурная и хронологическая принадлежность керамики бронзового века Турганикского поселения в Оренбургской области // Традиции и инновации в изучении древнейшей керамики: материалы международной научной конференции 24-27 мая 2016 г. Санкт-Петербург: ИИМК РАН, 2016. С. 121-124.
- Бобринский А.А. Гончарство Восточной Европы. Источники и методы изучения. М.: Наука, 1978. 272 с.
- Салугина Н.П. Результаты технико-технологического анализа керамики репинского облика стоянки Турганик (предварительные итоги) // Археологические памятники Оренбуржья. Вып. 12. Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2016. С. 60-70.
- Салугина Н.П. Технология керамики репинского типа из погребений древнеямной культуры Волго-Уралья // РА. № 3. 2005. С. 85-92.
- Моргунова Н.Л., Евгеньев А.А., Крюкова Е.А., Купцова Л.В., Харламов П.В., Файззулин И.А. Переволоцкий курганный могильник в Оренбургской области: предварительные результаты исследования // Археологические памятники Оренбуржья. Вып. 12. Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2016. С. 21-51.
- Богданов С.В. Эпоха меди степного Приуралья. Екатеринбург: УрО РАН, 2004. 285 с.
- Кореневский С.Н. Древнейшие земледельцы и скотоводы Предкавказья. М.: Наука, 2004. 243 с.
- Кореневский С.Н., Резепкин А.Д. Радиокарбонная хронология памятников круга майкопского кургана и новосвободненских гробниц // Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. XXII. М.-Магнитогорск-Новосибирск, 2008. С. 109-127.
- Моргунова Н.Л. К вопросу об общественном устройстве древнеямной культуры (по материалам степного Приуралья) // Древняя история населения Волго-Уральских степей. Оренбург: ОГПИ, 1992. С. 5-27.
- Моргунова Н.Л. Курганы у сел Краснохолм и Кардаилово в Илекском районе // Археологические памятники Оренбуржья. Оренбург: Печатный Дом «ДИМУР», 1996. С. 8-43.
- Братченко С.Н. Нижнее Подонье в эпоху средней бронзы. Киев: Наукова Думка, 1976. 249 с.
- Васильев И.Б., Колев Ю.И., Кузнецов П.Ф. Новые материалы бронзового века с территории Северного Прикаспия // Древние культуры Северного Прикаспия. Куйбышев: КГПИ, 1986. С. 108-149.
- Кузнецов П.Ф., Мочалов О.Д. Особый тип керамики как отражение культурных связей в начале среднего бронзового века Волго-Уралья // Известия Самарского научного центра РАН. Т. 11. № 6. Самара, 2009. С. 292-295.
- Гей А.Н. Новотиторовская культура. М.: ТОО «Старый сад», 2000. 224 с.
- Мочалов О.Д. Керамика погребальных памятников эпохи бронзы лесостепи Волго-Уральского междуречья. Самара: СамГПУ, 2008. 252 с.
- Лагодовська Р.Ф., Шапошникова О.Г., Макаревич М.Л. Михайлiвське поселення. Киiв: АН УССР, 1962. 247 с.
- Коробкова Г.Ф., Шапошникова О.Г. Поселение Михайловка - эталонный памятник древнеямной культуры (экология, жилища, орудия труда, системы жизнеобеспечения, производственная структура). СПб.: Европейский дом, 2005. 326 с.
- Тесленко Д.Л. О находках реповидной керамики в погребениях эпохи ранней бронзы Поднепровья // Взаимодействие и развитие древних культур южного пограничья Европы и Азии: материалы конференции. Саратов: Мин-во культуры Саратовской области, 2000. С. 45-47.
Дополнительные файлы