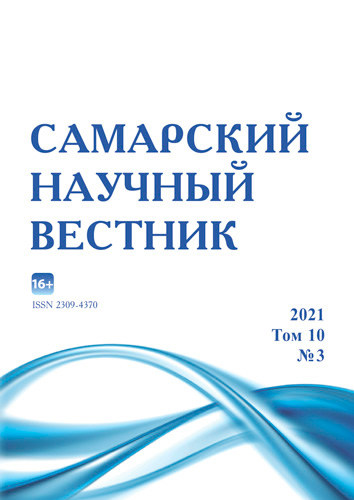Культурно-просветительная работа в РККА в период фронтовой Гражданской войны: советская историография 1920-х – первой половины 1930-х годов (опыт краткого обзора истории изучения проблемы)
- Авторы: Трибунский С.А.1
-
Учреждения:
- Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва
- Выпуск: Том 10, № 3 (2021)
- Страницы: 186-192
- Раздел: Исторические науки и археология
- URL: https://snv63.ru/2309-4370/article/view/90487
- DOI: https://doi.org/10.17816/snv2021103209
- ID: 90487
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Исследователь осветил (в формате лапидарного историографического обзора) историографические источники, выпущенные в свет в 1920-е – первой половине 1930-х годов, в которых рассматривалась тема культурно-просветительной работы в Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА) в период фронтовой Гражданской войны (1918–1920). В историографическом периоде, хронологические рамки которого указаны выше, появилось относительно большое количество историографических источников, посвященных истории российской Гражданской войны (во фронтовой стадии ее протекания). В них нашли отражение в том числе и многие аспекты исторического феномена партийно-политической работы в Вооруженных силах молодого Советского государства – того исторического феномена, именно в рамках которого зародилась и окрепла культурно-просветительная работа в Красной армии. Причем такие исследования проводилось фактически пока что по неостывшим следам: ведь на окраинах Советского государства Гражданская война, хотя и не столь масштабная, но все-таки продолжалась до конца 1922 г. Подобные историографические источники требуют осмысления и переосмысления с позиций новых теоретико-методологических подходов, утвердившиеся в современной российской исторической науке. Автор отобрал для лапидарного историографического обзора в первую очередь комплекс историографических источников, имеющих как непосредственное, так и опосредованное отношение к теме культурно-просветительной работы в РККА в период фронтовой Гражданской войны, которые были изданы в хронологических рамках, указанных выше. Следует сказать, что автор не претендует на полноту освещения рассматриваемой темы, чего, собственно, и невозможно достичь в формате краткого историографического обзора.
Полный текст
Подлинная научная историография занимается не пассивным собирательством и склеиванием источников, а постановкой проблем, которые наполняют картину новым смыслом, содержанием
Р.Дж. Коллингвуд [1]
Введение
В 2020 г. на страницах журнала «Самарский научный вестник» опубликовали наш краткий обзор истории изучения проблемы культурно-просветительной работы в РККА в период фронтовой Гражданской войны в историографических источниках, увидевших свет в 1918–1920 гг. [2, с. 261–268]. Настоящая статья – логическое продолжение работы, упомянутой выше.
Объект исследования – советская историография вопросов культурно-просветительной работы в Красной армии в период фронтовой Гражданской войны в России (1918–1920), которая нашла свое отражение в большом количестве опубликованных историографических источников.
Предмет исследования – сложившаяся советская исследовательская историографическая традиция изучения обозреваемой темы, анализ процесса накопления и приращения исторических знаний по ней в историографических источниках, выпущенных в свет в 1920-е – первой половине 1930-х гг.
Это пятнадцатилетие составляет условный историографический период. Методологические основы выполнения работы отобраны следующим образом. С одной стороны, с учетом так называемого методологического плюралистического многоголосия, утвердившегося в современной российской исторической науке [3, с. 103–111; 4, с. 3–20; 5, с. 676–688; 6, с. 222–228]. Поэтому, во-первых, приоритет рационализма в процессе историко-научного и, в том числе, историографического познания является основным [7, с. 150–154]; во-вторых, признается закономерность и необходимость перехода от эмпирического уровня в познании исторического и историко-познавательного процесса к теоретическому уровню его понимания и объяснения. С другой стороны, учтена специфика проблемно-тематического исследования, которая разработана современными российскими историографами [8, с. 184–195; 9, с. 38–42; 10, с. 501–509; 11, с. 270–278].
В работе освещен (в форме лапидарного историографического обзора) массив историографических источников, представляющих собой традиционные исторические источники, вовлеченные в процесс историографического анализа, результаты которого нашли отражение в различного рода научной, научно-популярной, публицистической литературе (монографии, книги, брошюры, статьи) [9, с. 501–509]. В них нашли отражение те или иные аскеты культурно-просветительной работы в РККА, которая представляла собой систему мероприятий, проводимых командирами, политорганами, партийными и комсомольскими организациями по коммунистическому воспитанию и политическому просвещению личного состава, удовлетворению духовных запросов и организации досуга военнослужащих Красной армии [12]. Причем она являлась составной частью партийно-политической работы в Вооруженных силах Советского государства (правда, с определенной долей самостоятельности) [13, с. 683–684].
Основная часть
Ясно, что тема культурно-просветительной работы в РККА в 1918–1920 гг. имеет историю ее историографии. И автор, выполняя свой лапидарный историографический обзор, всемерно опирался на историографические наработки предшественников: специальные монографии [14; 15]; диссертационные исследования [16], статьи [17; 18, с. 21–38], материалы научных форумов [19], энциклопедические издания [20, стлб. 82–84]. При этом обеспечивалось бережное и корректное отношение к ним, что в то же время не исключало их критической оценки.
Обозреваемая тема представляет повышенный интерес для современных историографов в той связи, что в советской исторической науке в хронологических рамках, означенных выше, сложилась уникальная историографическая ситуация. Ее суть – наличие относительной свободы научного творчества и ее затухание, сопровождавшие развитие советской исторической науки по восходящей линии. В это время историки, по крайней мере до конца 1920-х годов, не боялись резких оценок негативных явлений. Так, С. Оликов писал: «Повальные обыски, проводимые на Украине, в течение пяти месяцев 1919 г. выявили 500 тыс. (!) дезертиров из Красной армии» [21, с. 33]. Как видно, исследователи пока еще не попали под цензурный пресс. Они не боялись вводить в научный оборот факты, которые явно были дискомфортными (в политическом отношении) для политического режима советской власти и правившей в Советской России коммунистической партии.
Исследования же проблематики истории российской Гражданской войны начали проводить фактически пока что по неостывшим следам: ведь на окраинах Советского государства братоубийственная война, хотя и не столь масштабная, но все-таки продолжалась до конца 1922 г. В пользу уникальности историографической ситуации, сложившейся в 1920-е – первой половине 1930-х годов, свидетельствует такой факт: продолжалось совершенствование деятельности архива Красной армии, который осуществлял базовую научную и техническую обработку документов, а также и их опубликование. Уже в 1932 г. в нем сосредоточилось до 2 млн единиц хранения материалов по Гражданской войне [22, с. 7] (даже выпустили в свет научно-справочное издание, в помощь работающим в архиве [23]). Правда, начиная с 1931 г. архивы стали работать в режиме интенсивно вводящихся различного рода запретов. Публиковались и научно-библиографические издания, имеющие прямое отношение к рассматриваемой нами теме, что всемерно способствовало повышению качества ее научных исследований [24]. В целом, и это представляется принципиальным подчеркнуть, уникальность обозреваемого нами условного историографического периода относительно подробно исследована и в советской [25, с. 92–105; 26–29; 30, с. 200–215; 31, с. 64–105; 32, с. 43–51], и в постсоветской [33, с. 43–148; 34–36] и в современной [37; 38, с. 101–108] отечественной исторической науке. Поэтому ограничимся лишь цитированием взглядов Г.М. Ипполитова и С.Н. Полторака, с которыми автор данной работы соглашается: «Историки, по крайней мере, в первой половине 20-х гг. минувшего века могли заниматься научными изысканиями в обстановке относительной творческой свободы. В то время шел поиск путей дальнейшего развития исторической науки в условиях становления молодого Советского государства. Марксистско-ленинская методология пыталась доминировать, но пока что не являлась монопольной. Она сталкивалась с методологическими подходами дореволюционных российских исторических школ. Относительно мирно существовали оставшиеся представители старой и новой исторической науки. Однако со второй половины 20-х гг. XX в. начинается медленное, но уверенное затухание относительной творческой свободы историков» [18, с. 22].
И все это не могло не наложить неизгладимый отпечаток на историографию российской Гражданской войны во фронтовой стадии ее протекания – периода интенсивных боевых действий, которые вели красные и белые оперативно-тактические (армии) и оперативно-стратегические (фронты) объединения [39, с. 34–35; 40, с. 127–132]. Причем данная историография имеет впечатляющие количественные показатели. Подтвердим этот тезис убедительной статистикой, введенной в свое время в научный оборот советским ученым И.Л. Шерманом: в 1920-х годах по истории Гражданской войны были выпущены в свет около 1200 наименований сборников, книг, статей, воспоминаний, документальных публикаций в журналах. Кроме того, военно-политические органы и отчасти истпарты выпустили около 60 сборников по истории Вооруженных сил Советского государства [41, с. 99]. Более того, И.Л. Шерман пришел к выводу, что в обозреваемом историографическом периоде увидела свет именно исследовательская литература по истории российской Гражданской войны: из 504 работ по общим проблемам Гражданской войны, изданных в 1920-х годах, исследовательский характер имеют около 250 произведений [41, с. 99]. Но в то же время, утверждают Г.М. Ипполитов и С.Н. Полторак, тенденция к изданию работ (особенно в первой половине 1920-х гг.), отличавшихся популярностью и краткостью изложения, ограниченным привлечением документальных источников, «продолжала иметь место» [18, с. 21–22].
Что характерно: не все советские историки учли убедительные данные И.Л. Шермана. И это привело к излишне категоричным суждениям и обобщениям, мягко говоря, с сомнительной степенью достоверности. Так, В.Ф. Клочков в своей монографии пришел к выводу следующего порядка: историческая литература 1920-х гг. являлась «крайне бедной» [42, с. 11]. Вряд ли ему были неизвестны данные И.Л. Шермана, приводимые выше. Видимо, он их упустил, так как они не вписывались в его концепцию (конечно, это наша гипотеза и не более). Рассуждая о «крайней бедности» советской историографии 1920-х годов, освещающей Гражданскую войну, не учел В.Ф. Клочков и такой статистики: систематический указатель литературы по проблемам партийно-политической работы в Красной армии за 1918–1928 гг., подготовленный в Военно-политической академии им. Н.Г. Толмачева, включает 2407 (!) наименований [24]. Поэтому выглядит закономерным, что вывод советского историка В.Ф. Клочкова, изложенный выше, подвергался конструктивной критике в современной историографии [15]. Так, Г.М. Ипполитов и С.Н. Полторак утверждают в данной связи буквально следующее: «…никоим образом нельзя согласиться с оценкой, имевшей место в советской историографии в первой половине 80-х гг. минувшего века, о том, что историческая литература 1920-х гг. являлась "крайне бедной"» [18, с. 31].
Анализ историографических источников, включенных в данный лапидарный историографический обзор, дает основания для такого обобщения: различные аспекты проблемы культурно-просветительной работы РККА нашли освещение (разумеется, с той или иной степенью подробности) в исследованиях феномена партийно-политической работы в Вооруженных силах Советского государства в период российской Гражданской войны (во фронтовой стадии ее протекания). Подобную литературу можно сгруппировать следующим образом: 1) работы, освещающие дискуссию о роли политических органов и организаций правившей в Советской России коммунистической партии в Красной армии; 2) исследовательские труды; 3) учебные издания.
1. Работы, освещающие дискуссию о роли политических органов и организаций правившей в Советской России коммунистической партии в Красной армии
Эта дискуссия развернулась после окончания фронтовой Гражданской войны в первой половине 1920-х годов. Ее предмет – выявление роли и места политорганов и организаций правившей в Советской России коммунистической партии в Красной армии в условиях мирного времени. Участники дискуссии опирались в своих рассуждениях, причем все без исключения, на опыт деятельности политических органов и организаций РКП(б) в Красной армии, накопленный в период фронтовой Гражданской войны. Именно в данном контексте в таких трудах, судя по их текстологическому анализу, имеются небольшие фрагменты, раскрывающие положительный опыт деятельность политорганов на направлении ликвидации безграмотности красных бойцов, а также обеспечения их культурных запросов и нужд [43, с. 190–197; 44, с. 141–142; 45, с. 38–40].
2. Исследовательские труды
В них тема, обозревая нами, нашла уже более подробное освещение [46, с. 54–56; 47, с. 53–54; 48, с. 2–3; 49, с. 1–13]. Ее особенность – наличие статей крупных военно-политических работников (А.С. Бубнов, С.И. Гусев) [50–52]. Так, А.С. Бубнов затронул, в частности, некоторые аспекты партийно-политической работы в Красной армии в годы Гражданской войны, в том числе и ее культурно-просветительную составляющую. Особенно на направлении удовлетворения культурных запросов и нужд красных бойцов и командиров. Автор выполнял свои статьи в качестве начальника Политуправления РККА. Следовательно, он имел доступ к большому объему информации, в том числе и недоступной рядовым исследователям. Между тем при всем фактографическом и фактологическом богатстве данного сборника статей, нельзя не отметить того, что многие тезисы А.С. Бубнова изложены в директивном ключе, что, безусловно, снижает научную значимость анализируемого труда [50].
В 1921 г., то есть буквально сразу после окончания фронтовой Гражданской войны в России, С.И. Гусев, являвшийся в то время начальником Политического управления РККА и членом Реввоенсовета Республики, написал небольшую работу. Ее издали отдельной брошюрой с символическим названием «Уроки гражданской войны» [53]. Автор обозначил в ней, в частности, общие проблемы и для Красной, и для белой армий: дезертирство; неорганизованность и слабая психологическая устойчивость сформированных на ходу воинских частей; маневренный характер военных действий и многочисленные партизанские выступления, а также волны прилива – отлива добровольно-принудительных пополнений за счет населения занимаемых территорий [53, с. 6–10, 12–13]. При этом начальник Политического управления РККА и член Реввоенсовета Республики сформулировал один из основных уроков Гражданской войны. Данная война являлась классовой партийной войной. И это обусловило все основные особенности ее протекания. И не только в сугубо военной сфере всеобщего конфликта, поразившего наше Отечество в исследуемый период [54, с. 43–60]. Классовый партийный характер войны наложил неизгладимый отпечаток на систему партийно-политической работы в РККА. Судя по текстологическому анализу брошюры С.И. Гусева, данная мысль проходит по всем фрагментам и сюжетам, имеющим отношение к партийно-политической работе в Красной армии, в том числе и к ее культурно-просветительной составляющей. В то же время нельзя не отметить, что эта брошюра, во-первых, носит обобщающий характер, следовательно, здесь нет детализации, например, конкретных форм и методов культурно-просветительной работы в красных соединениях и частях; во-вторых, написана крупным военно-политическим работником РККА, следовательно, налицо директивный стиль изложения отдельных положений, что не может не снизить их значимости, если подходить с учетом критериев исследовательского труда.
Можно считать небезынтересным историографическим событием в рамках обозреваемого условного историографического периода то, что в 1921–1922 годах были опубликованы краткие обобщающие статьи в военной периодике. Они увидели свет, и это представляется принципиальным подчеркнуть, буквально, фигурально выражаясь, по горячим следам отгремевшей братоубийственной российской Гражданской войны (во фронтовой стадии ее протекания). В текстах этих работ налицо фрагменты и сюжеты, имеющие отношение к теме, которой посвящен настоящий лапидарный обзор историографических источников. Н. Рябичев проанализировал основные направления деятельности политотделов соединений и объединений. Относительно же культурно-просветительной работы в войсках он раскрывает, в частности, формы работы библиотек в войсках первой линии [55, с. 68–73]. В другой обобщающей статье М. Грачевского подводятся итоги политико-просветительной работы в Красной Армии за 1918–1922 годы. Автор статьи, судя по ее текстологическому анализу, четко сопрягает фрагменты и сюжеты, имеющие отношение именно к культурно-просветительной работе, с агитационно-пропагандистской деятельностью политических отделов соединений и частей, организаций РКП(б), в первую очередь в войсках действующей армии [56, с. 68–71]. Примерно в таком же ключе выполнена статья «Развитие политорганов Красной Армии с 1917 по 1922 год». В ней основное внимание акцентируется на сугубо организационных аспектах процесса создания сети политических органов РККА на различных уровнях. В то же время, хотя и кратко, упоминается и о культурно-просветительной работе (она именуется как «политическо-просветительная работа»). В частности, раскрывается ее структура, в которой особое место занимают театры Красной армии, а также многочисленная сеть клубов, библиотек и школ грамотности [57, с. 36–40].
Заслуживает внимания статья А. Короля «О ложных представлениях», вышедшая в 1923 г., где автор на основе сравнительного анализа политической работы с личным составом царской армии и Красной армии делает важный вывод о том, что уровень идейно-политического воспитания во многом зависит от гибкости, четкости и конкретности работы политорганов и политработников в данной области военного строительства. При этом исследователь всецело ссылается на опыт политической работы, накопленный в РККА в 1918–1920 гг. В сюжетах, посвященных обозреваемой теме, небезынтересны рассуждения о процессе ликвидации безграмотности с подчеркиванием сугубо ее классового характера. Правда, статья перенасыщена нарративом, что, естественно, затрудняет глубину анализа рассматриваемой А. Королем проблемы [58, с. 63–66]. В 1923 г. выпустили также и специальный сборник статей по партийной и политико-просветительной работе в Красной Армии и Флоте в мирное время. Однако название не должно вводить в заблуждение: все без исключения авторы анализируемого сборника статей, рассуждая о политической работе в РККА в мирное время, базировали свои обобщения на опыте только что минувшей Гражданской войны, в том числе и в сфере культурно-просветительной работы как в войсках действующей армии, так и в военных округах [59]. Небольшой материал по обозреваемой теме, причем в опосредованной форме, можно почерпнуть из передовой статьи «Ленин и зарождение Красной армии», опубликованной в журнале «Военный вестник» в 1924 г. [60, с. 3–14]. Нельзя не упомянуть и о статье Н. Остоженского, в которой он кратко осветил ряд аспектов организации военно-музейного дела, затронув в том числе и проблему их роли и места в системе культурно-просветительной работы в РККА [61, с. 10–15]. Опосредованный материал о военно-музейном деле содержится и в статье Н. Марра [62, с. 276–284]. Заметный информационно-справочный материал по рассматриваемой проблеме (в контексте ликвидации безграмотности в РККА) несет в себе и работа В. Вырвича [63].
В 1921 г. Политуправление всех вооруженных сил на Украине опубликовало «Схему доклада т. Дегтярева на 3-м Всеукраинском совещании по народному просвещению под заголовком «Роль Красной Армии в советском культурном строительстве». Л. Дегтярев раскрывает роль Красной Армии в советском культурном строительстве. В тексте всего 8 страниц. Все они выполнены в ярко выраженном конспективном ключе. Автор этой «Схемы доклада…» заострил внимание на том, как в красных войсках в годы Гражданской войны боролись с малограмотностью и абсолютной безграмотностью бойцов [64]. Причем Л. Дегтярев сделал особенный акцент на том, что ликвидация безграмотности сопутствовала политической закалке красноармейцев, формированию у них готовности героически драться с классовым врагом до полного его уничтожения. В работе налицо большое количество пропагандистских клише, что вполне соответствует классовому подходу к оценке событий и явлений. Но здесь же имеется небезынтересная и фактография, и фактология (хотя, конечно, до предела краткая). В данном ряду должна рассматриваться и статья М. Рафеса об агитационно-просветительской работе в Красной Армии [65, с. 22–28]. Есть также некоторый материал по проблемам партийно-политической работы и в трудах I Всероссийского съезда библиотечных работников Красной Армии и Флота. Он относится в первую очередь к культурно-просветительной работе в РККА. Однако по объему подобный материал не является большим [66].
Занимались исследованием партийно-политической работы в РККА, в том числе и ее культурно-просветительской составляющей, А.А. Геронимус и Ф. Блументаль. Они написали соответствующие разделы во 2-м томе крупного обещающего трехтомного труда «Гражданская война 1918–1921 гг.», выпущенного в свет в 1928 году. Стиль освещения рассматриваемой проблемы, свойственный обобщающим трудам, не предоставил ученым возможности для детализации, что присуще специальным монографическим исследованиям. Однако им удалась представить фактографию и фактологию и аналитику (правда, крайне обобщенную). А.А. Геронимус осветил при этом основные моменты развития партийно-политического аппарата в Красной армии в 1918–1920 гг., кратко раскрыв при этом его функции по отношению к культурно-просветительной работе [67, с. 10–117]. Ф. Блументаль рассмотрел основные направления партийно-политической работы в Гражданскую войну 1918–1921 гг., в том числе и в ее культурно-просветительной составляющей [68, с. 129–140].
Книга А.А. Геронимуса «Партия и Красная армия» выполнена в форме исторического очерка, что уже подразумевает значительную долю нарратива, который, как известно, затрудняет анализ проблемы. И хотя она посвящена общим вопросам военного строительства в первое десятилетие существования РККА, в ней много внимания уделяется вопросам партийно-политической работы в годы Гражданской войны. Именно в этих фрагментах и сюжетах содержится небольшой материал, имеющий отношение к обозреваемой нами проблеме. Причем автор не боится давать здесь критические оценки [69]. Примерно такую же краткую характеристику можно дать и другой работе А.А. Геронимуса [70]. Правда, материала, интересующего нас, в ней содержится намного меньше, нежели в первой книге это ученого.
Отдельного упоминания заслуживают статьи С. Полунина, предмет исследования которых – некоторые аспекты военно-музейного строительства в Советском государстве и деятельности военных музеев [71, с. 76–79; 72, с. 40–43]. Отдельные фрагменты и сюжеты (причем во второй работе их больше, нежели в первой) имеют прямое отношение именно к проблеме культурно-просветительной работы в РККА в период фронтовой Гражданской войны в России.
Общим недостатком трудов, проанализированных выше, следует считать, по мнению Г.М. Ипполитова и С.Н. Полторака, «их слабую архивную составляющую в источниковой базе. Подобное стало возможным потому, – отмечают ученые, что в исследуемом периоде не все архивы еще отложились, некоторые архивные документы и материалы не могли быть представлены исследователям по соображениям секретности. В методике исследования допускались алогизмы, дублирование материала, а иногда и просто неприкрытая тавтология» [18, с. 25]. Автор настоящего лапидарного историографического обзора выражает солидарность с подобным мнением Г.М. Ипполитова и С.Н. Полторака.
3. Учебные издания
Здесь в первую очередь следует вести речь о работе Л. Дегтярева, изданной в качестве учебного пособия в Военно-политической академии им. Н.Г. Толмачева [73]. Автор излагает содержание курса политработы, читаемого в военном вузе, указанном выше. Ясно, что основной материал излагается с учетом опыта партийно-политической работы, накопленного в период фронтовой Гражданкой войны. Стиль изложения материала – характерный для учебных изданий: аналитических фрагментов – меньше; обобщающих суждений и рекомендаций – больше. Намного меньше, но все-таки имеется материал по обозреваемой нами теме в учебном пособии по истории Гражданской войны, выполненном С. Рабиновичем и адресованном личному составу военных школ РККА [74].
Выводы
Исследование показало следующее:
– Во-первых, в условиях относительной свободы научного творчества и ее затухания изучение рассматриваемой проблемы шло по восходящей линии: от научно-популярной к научной литературе. Абсолютное большинство научных работ имело предметом исследования различные аспекты феномена партийно-политической работы в Вооруженных силах молодого Советского государства и его органической культурно-просветительной составляющей в период братоубийственной российской Гражданской войны (во фронтовой стадии ее протекания).
– Во-вторых, в массиве историографических источников, подвергнутых лапидарному историографическому обзору, можно провести соответствующую группировку, а именно – выделить следующие группы: 1) работы, освещающие дискуссию о роли политических органов и организаций правившей в Советской России коммунистической партии в РККА; 2) исследовательские труды; 3) учебные издания. В количественном отношении самой многочисленной является вторая группа работ. При этом представляется принципиальным подчеркнуть, что все три группы находятся в тесном диалектическом единстве.
– В-третьих, отличительная черта массива рассмотренных историографических источников – участие в их создании крупных военно-политических работников Вооруженных сил Советского государства (С.И. Гусев, А.Н. Бубнов). При всем фактографическом и фактологическом богатстве этих трудов, нельзя не отметить того, что многие их тезисы изложены в директивном ключе. Подобное детерминируется в первую очередь служебно-должностным статусом их авторов. Но такие директивные тезисы, безусловно, снижают научную значимость работ, означенных выше.
– В-четвертых, общий недостаток работ, попавших в настоящий лапидарный историографический обзор, – слабая архивная составляющая в источниковой базе.
– В-пятых, в начале 1930-х годов на качестве исследований стал сказываться отрицательным образом процесс затухания творческой свободы, перманентно набиравший обороты.
Таким образом, богатая как в количественном, так и в качественном отношениях советская историография культурно-просветительной работы в РККА в период фронтовой Гражданской войны, изданная в 1920-х – первой половины 1930-х годов, не может не стать предметом повышенного научного интереса для современных ученых-историков. Гипотетически можно предположить, что при углубленной их проработке с позиций новых теоретико-методологических подходов, что утвердились сегодня в отечественной исторической науке, исследователей ждут на данном историографическом поле новые открытия.
Об авторах
Сергей Александрович Трибунский
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королёва
Автор, ответственный за переписку.
Email: ser.6791@yandex.ru
кандидат исторических наук, доцент кафедры российской истории
Россия,Список литературы
- Коллингвуд Р.Дж. Идея истории. Автобиография / пер. и ком. Ю.А. Асеева. М.: Наука, 1980. 485 с.
- Трибунский С.А. Культурно-просветительная работа в РККА в период фронтовой Гражданской войны: ранняя советская историография (опыт краткого обзора истории изучения проблемы) // Самарский научный вестник. 2020. Т. 9, № 4. С. 261–268. doi: 10.17816/snv202094208.
- Филатов Т.В. Неопределенность и изменчивость прошлого // Философия культуры – 96: сб. науч. ст. Самара, 1996. С. 103–113.
- Сахаров А.Н. О новых подходах к истории России // Вопросы истории. 2002. № 8. С. 3–20.
- Ипполитов Г.М. Объективность исторических исследований. Достижима ли она? Дискуссионные заметки // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2006. Т. 8, № 3. С. 676–688.
- Ипполитов Г.М. О новых подходах к освещению советского периода российской истории (на примере Гражданской войны в России) // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2011. Т. 13, № 3 (41). С. 222–228.
- Мингулов Х.И., Филатов Т.В., Ходыкин В.В. Формирование фундаментальной базы рационального мышления: постановка проблемы // Международный научно-исследовательский журнал. 2017. № 3–1 (57). С. 150–153. doi: 10.23670/IRJ.2017.57.117.
- Ипполитов Г.М. Историографический факт и историографический источник как категории исторической науки: непростая диалектика // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2013. Т. 15, № 1. С. 184–195.
- Ипполитов Г.М. Классификация источников в проблемно-тематических историографических исследованиях и некоторые методологические подходы к их анализу // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2011. Т. 13, № 3 (2). С. 501–509.
- Камынин В.Д. К вопросу о методике современного историографического исследования // Историческая наука и образование в условиях современных вызовов. Казань: Казанский ун-т, 2012. С. 38–42.
- Камынин В.Д. «Проблемная историография» в 1990-е – первые годы XXI в.: исследовательский опыт и перспективы развития // Исторический опыт в меняющемся пространстве культуры: сб. ст., подг. по мат-лам всерос. науч. конф. Челябинск: Каменный пояс, 2006. С. 270–278.
- Словарь военных терминов / сост. А.М. Плехов. М.: Воениздат, 1988. 335 с.
- Партийно-политическая работа в Вооруженных силах СССР // Военный энциклопедический словарь. М.: Эксмо, 2007. С. 683–684.
- Рыбников В.В. Деятельность КПСС по интернациональному воспитанию советских воинов: историографическое исследование. М.: ВПА, 1986. 197 с.
- Ипполитов Г.М. Летопись братоубийства (очерки советской историографии Гражданской войны на Юге России. 1918–1985 гг.). Самара: Изд-во «АсГард», 2009. 410 с.
- Наумов В.П. Советская историография империалистической интервенции и гражданской войны в СССР: дис. … д-ра ист. наук. 07.00.00. М., 1971. 845 с.
- Историография гражданской войны и империалистической интервенции (1918–1920 гг.): сб. ст. М.: Наука, 1983. 240 с.
- Ипполитов Г.М., Полторак С.Н. Историография Гражданской войны в России в первые послевоенные годы (1922–1932 гг.) // Клио. 2016. № 3 (111). С. 21–38.
- Гражданская война в России: проблемы истории и историографии: сб. докл. межвуз. науч. конф., г. Санкт-Петербург, 29 ноября 2013 г. / отв. ред. В.В. Калашников. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ; «ЛЭТИ», 2014. 205 с.
- Иностранная военная интервенция и гражданская война в СССР 1918–1920. Историография // Советская историческая энциклопедия. Т. 6. М.: Гос. науч. изд-во «Советская энциклопедия», 1965. Стлб. 82–84.
- Оликов С. Дезертирство в Красной армии и борьба с ним. [Б.м.]: Изд. военной тип. упр. делами Наркомвоенмор и РВС СССР, 1926. 128 с.
- Найда С.В., Наумов В.П. Советская историография гражданской войны и иностранной военной интервенции в СССР. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1966. 172 с.
- Архивы СССР. Архив Красной армии / сост.: А.К. Бочков, Е.Д. Дивнина, М.П. Ершов [и др.]. М.: Изд. Штаба РККА, 1933. 135 с.
- Мищенко М. Партийно-политическая работа в Красной армии: Систематический указатель литературы за 1918–1928 гг. / под ред. Ф. Блументаля. М.; Л.: Гос. изд-во. Отд. воен. литературы, 1929. 127 с.
- Алексеева Г.Д. Возникновение советской исторической науки // История СССР. 1960. № 1. С. 92–105.
- Шерман И.Л. Советская историография Гражданской войны в СССР (1920–1931). Харьков: Изд-во Харьковского ун-та, 1964. 338 с.
- Алексеева Г.Д. Октябрьская революция и историческая наука (1917–1923). М.: Наука, 1968. 300 с.
- Клаус В.А. Методологические проблемы советской исторической науки (20-е – начало 30-х годов): дис. … канд. филос. наук: 09.00.03. Л., 1980. 192 с.
- Зарождение и развитие советской военной историографии, 1917–1941 / отв. ред. П.А. Жилин. М.: Наука, 1985. 183 с.
- Соловей В.Д. Процесс становления советской исторической науки (1917–1930-х гг.) в освещении американской историографии // История СССР. 1988. № 4. С. 200–215.
- Историческая наука в 20–30 годы: «Круглый стол» научного совета по историографии и источниковедению // История и историки. М., 1990. С. 64–105.
- Соколов В.Ю. История и политика (к вопросу о содержании и характеристике дискуссий советских историков 1920–1930-х гг.). Томск: Изд-во Томского ун-та, 1990. 200 с.
- Алексеева Г.Д. Историческая наука в России после победы октябрьской революции // Россия в ХХ веке. Судьбы исторической науки: сб. ст. / под общ. ред. А.Н. Сахарова. М.: Наука, 1996. С. 43–51.
- Кривошеев Ю.В., Дворниченко А.Ю. Изгнание науки: российская историография в 20-х – начале 30-х годов XX века // Отечественная история. 1994. № 3. С. 143–158.
- Артизов А.Н. Школа М.Н. Покровского и советская историческая наука (конец 1920-х – 1930-е гг.): дис. … д-ра ист. наук: 07.00.09. М., 1998. 199 с.
- Сидоров В.А. Теоретико-концептуальные основы отечественной историографии в 1920-е годы: дис. … д-ра ист. наук: 07.00.09. М., 1998. 464 с.
- Алексеева Г.Д. Из истории разработки теоретических проблем в советской исторической науке (20-е – начало 30-х гг. XX в.). М.: Институт российской истории РАН, 2001. 183 с.
- Тихонов В.В. Историческая наука в 1920-е годы: историографические заметки // Вестник Челябинского государственного университета. 2013. № 30 (321). История. Вып. 57. С. 101–108.
- Ипполитов Г.М. «Красные орлы» против «рыцарей белой мечты»: духовная сеча. Моральный дух комбатантов в российской Гражданской войне (ноябрь 1917 – дек. 1920 гг.): опыт компаративного анализа. Самара: Изд-во СНЦ РАН, 2005. 418 с.
- Полторак С.Н. Современное видение Гражданской войны в России (материал для лекции студентам-гуманитариям, изучающим курс отечественной истории) // Клио. 2013. № 1 (73). С. 127–132.
- Шерман И.Л. Первые исследования по истории гражданской войны // Военно-исторический журнал. 1964. № 7. С. 98–107.
- Клочков В.Ф. Красная Армия – школа коммунистического воспитания советских воинов, 1918–1941 / отв. ред. Ф.А. Мажаев. М.: Наука, 1984. 229 с.
- Материалы дискуссии Ф. Блюменталя и А. Шифреса по вопросу о месте и роли политорганов в РККА // Политработник. 1924. № 2–3. С. 190–197.
- Рабинович С. К вопросу о планах работы политорганов // Политработник. 1924. № 2–3. С. 141–142.
- Арш. К вопросу о руководящей работе политорганов // Спутник политработника. 1926. № 41. С. 38–40.
- Партийная организация Красной Армии за десять лет // Военный вестник. 1928. № 2. С. 54–56.
- Политпросветработа в Красной Армии за десять лет // Военный вестник. 1928. № 2. С. 53–54.
- Милов Д. Партийная организация РККА перед XVI съездом партии // Военный вестник. 1930. № 17. С. 2–3.
- Лисицын И. Армейская партийная организация к тринадцатой годовщине Красной Армии // Военный вестник. 1931. № 5. С. 11–13.
- Бубнов А.С. Гражданская война, партия и военное дело: сб. ст. М.: Военный вестник, 1928. 77 с.
- Гусев С.И. Гражданская война и Красная армия: сб. воен.-теорет. и воен.-полит. ст. (1918–1924). М.; Л.: Гос. изд-во, 1925. 220 с.
- Гусев С.И. К пятилетнему юбилею ПУРа // Известия. 1924. 18 апреля.
- Гусев С.И. Уроки гражданской войны. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Гос. изд-во, 1921. 46 с.
- Ипполитов Г.М., Полторак С.Н. Ранняя советская историография Гражданской войны в России. 1918–1922 гг. // Клио. 2016. № 1 (109). С. 43–60.
- Рябичев Н. Политотдел в Гражданской войне // Революционная армия. 1921. № 1. С. 68–73.
- Грачевский М. Политпросветработа в Красной Армии за четыре года // Политработник. 1922. № 5. С. 68–71.
- Развитие политорганов Красной Армии с 1917 по 1922 год // Политработник. 1922. № 10–11. С. 36–40.
- Король А. О ложных представлениях // Политработник. 1923. № 11. С. 63–66.
- Сборник статей по парт. и политпросветработе в Красной Армии и Флоте в мирное время: К 3-му Совещанию политработников Красной Армии и Флота СССР. М.: Высший воен. ред. совет, 1923. 217 с.
- Ленин и зарождение Красной армии // Военный вестник. 1924. № 3. С. 3–14.
- Остоженский Н. Организация военно-музейного дела // Военное дело. 1920. № 15. С. 10–15.
- Марр Н. Место центральных музеев в культурном строительстве // Казанский музейный вестник. 1922. № 2. С. 276–284.
- Вырвич А. Красная Армия в борьбе с неграмотностью. М.: Военная типография, 1925. 123 с.
- Дегтярев Л.С. Роль Красной армии в советском культурном строительстве: (Схема доклада т. Дегтярева на 3-м Всеукр. совещании по нар. просвещению). Харьков: Политупр. всех вооруженных сил на Украине, 1921. 8 с.
- Рафес М. Агитационно-просветительская работа в Красной Армии // Коммунистическая революция. 1922. № 8. С. 22–28.
- Труды 1-го Всероссийского съезда библиотечных работников Красной армии и флота (15–24 октября 1920 года) / под ред. Е. Хлебцевича и А. Тьевара. М.: Высший воен. ред. совет, 1922. 128 с.
- Геронимус А. Основные моменты развития партийно-политического аппарата в Красной армии в 1918–1920 гг. // Гражданская война 1918–1921 гг. Т. 2. Военное искусство Красной Армии. М., 1928. С. 110–127.
- Блументаль Ф. Партийно-политическая работа в Гражданскую войну 1918–1921 гг. // Гражданская война 1918–1921 гг. Т. 2. Военное искусство Красной Армии. М.: Гос. изд-во военной литературы, 1928. С. 129–140.
- Геронимус А.А. Партия и Красная армия: Исторический очерк СССР. М.; Л.: Гос. изд-во. Отд. воен. литературы, 1928. 196 с.
- Геронимус А. Политика ВКП(б) в строительстве Вооруженных Сил пролетарского государства. Л., 1929. XLIV с.
- Полунин С. Передвижные выставки Центрального музея РККА // Советский музей. 1931. № 6. С. 76–79.
- Полунин С. Военно-музейное строительство // Советский музей. 1932. № 6. С. 40–43.
- Дегтярев Л.С. Политработа в Красной армии, испр. и доп. М.; Л.: Гос. изд-во, 1926. 170 с.
- История гражданской войны (краткий очерк): учеб. пособие для военных школ РККА / под ред. А. Геронимуса. М.: Партийное изд-во, 1933. 181 с.
Дополнительные файлы