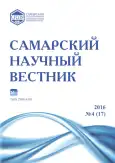Деятельность региональных и местных органов управления в сфере охраны природы в 1918-1950-х гг. (на материалах архивов Среднего и Нижнего Поволжья)
- Авторы: Макеева Е.Д.1
-
Учреждения:
- Самарский государственный социально-педагогический университет
- Выпуск: Том 5, № 4 (2016)
- Страницы: 134-139
- Раздел: 07.00.00 – исторические науки и археология
- URL: https://snv63.ru/2309-4370/article/view/22174
- DOI: https://doi.org/10.17816/snv20164212
- ID: 22174
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Изучение различных аспектов взаимодействия общества и природы в настоящее время представляет интерес не только для экологов, но и для специалистов в области гуманитарного знания, в частности историков. В данной статье рассматривается история становления и развития региональной системы управления охраной природы в Среднем и Нижнем Поволжье. Описываются основные проблемы, связанные с состоянием лесного фонда региона в 1918-1950-х гг., и меры, принимаемые исполкомами Советов различных уровней для устранения негативных последствий. В качестве основных направлений природоохранной деятельности местных органов управления рассмотрены: охрана леса от пожаров, хищений и заражений вредителями; создание заповедников; борьба с браконьерством; благоустройство и озеленение населенных пунктов. Источниками для подготовки статьи послужили в основном документы региональных архивов - Центрального государственного архива Самарской области, Государственного архива Ульяновской области, Государственного архива Пензенской области, Государственного архива Саратовской области, Национального архива Республики Татарстан, Самарского областного государственного архива социально-политической истории, а также материалы местной периодической печати рассматриваемых лет. Значительное количество архивных документов впервые вводится в научный оборот, что составляет научную новизну исследования.
Ключевые слова
Полный текст
В настоящее время, как отмечается многими исследователями (А.Г. Бусыгиным [1], В.А. Зубаковым [2], Н.Н. Моисеевым [3], Н.Ф. Реймерсом [4] и др.), под влиянием деятельности человека в мире углубляется экологический кризис. Охрана природы становится все более актуальной задачей, в том числе для России в целом и ее отдельных регионов. К сожалению, современная экологическая политика на федеральном и региональном уровнях является малоэффективной, и в этих условиях изучение исторического опыта организации работы государственных структур в сфере охраны природы позволяет извлечь определенные уроки и определить возможные пути дальнейшего совершенствования природоохранной практики современного российского государства.
Изучением становления и развития государственной системы охраны природы в РСФСР занимались такие ученые, как Д. Вайнер [5], В.В. Евланов [6], П.В. Палехова [7], В.В. Соколов [8]. Однако вопросы генезиса этой системы на региональном уровне, в частности в Среднем и Нижнем Поволжье, остаются пока практически не исследованными. Косвенно затрагивается эта проблема в трудах О.О. Акмурзиной [9], Е.В. Булюлиной [10], Е.В. Воейкова [11], А.В. Тупикова [12].
Целью нашего исследования явилось изучение важнейших аспектов деятельности региональных и местных органов власти и управления в сфере охраны природы в 1918–1950-х гг. на основе материалов архивов Среднего и Нижнего Поволжья.
Региональная система управления природопользованием и охраной окружающей среды в России начала формироваться в 1960-х гг. До этого времени природоохранные вопросы на местах решались чаще всего эпизодически, по мере их возникновения, региональными и местными органами исполнительной власти либо территориальными подразделениями республиканских и общесоюзных отраслевых ведомств. Главными задачами деятельности государственных органов исполнительной власти Среднего и Нижнего Поволжья в сфере охраны природы в 1918–1950-е гг. являлись охрана лесного фонда от лесных пожаров, насекомых-вредителей и уничтожения местным населением; лесовозобновление; выявление и поддержка особо охраняемых природных территорий; оздоровление экологической обстановки в городах и других населенных пунктах путем их благоустройства и озеленения; охрана водоемов и охотничьих угодий и борьба с браконьерством на их территориях. Основную роль в решении перечисленных задач играли структурные подразделения исполнительных комитетов местных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов (с 1936 г. – исполкомы Советов депутатов трудящихся).
В годы Первой мировой войны, революций 1917 г. и Гражданской войны вопрос об охране природы практически не поднимался, так как людям было необходимо прежде всего выжить в условиях голода, болезней и холода. В ходе экспроприации частных владений массово уничтожались парки, сады, леса и усадьбы, вырубка деревьев местным населением носила стихийный и массовый характер. В материалах территориальных земельных комитетов за 1917 г. не раз отмечалось, что «после переворота лес стали вырубать без надобностей вчистую, практически беспощадно», а также «происходили систематические погромы владельцев имений» [13, л. 109, 111–115]. Ситуация выходила из-под контроля, и уже в январе 1918 г. все леса республики были переданы в ведение земельных управлений и отделов губернских и территориальных исполкомов Советов. Лес являлся важнейшим объектом охраны этих ведомств, и для руководства делами, касающимися лесного хозяйства, при каждом губернском земельном комитете был создан лесной отдел земельной управы [14].
Создание территориальной системы управления лесами являлось весьма своевременной мерой, так как лесное хозяйство исследуемого нами региона в 1918–1920-е гг. находилось в значительном упадке. Древесина была основным топливом, поэтому велась нещадная вырубка лесов, что являлось главной причиной их гибели и общего ухудшения качества природной среды [15, л. 7–7 об.; 18; 21; 53]. Практически сразу после начала Гражданской войны в 1918 г. в стране разразился топливный кризис, ставший причиной резкого увеличения масштабов вырубки. Нормы годовой лесосеки превышались иногда в несколько раз: в Мелекесском уезде в отдельных местах вырубались леса на десять лет вперед [16, л. 64–64 об.]; в Саратовской губернии «…площадь спелого леса… была в значительной степени опустошена. В некоторых районах совершенно не представляется возможным производить отводы новых площадей за полным истощением спелого леса» [17, с. 5]. В Пензенской губернии с 1918 по 1921 гг. лесосеки были разработаны в среднем на пять лет вперед, в отдельных лесных массивах фиксировались вырубки лесов на 10–15 лет вперед [18, л. 65; 19, л. 64; 20, л. 31; 21, с. 149].
Кроме лесозаготовок, производимых государственными организациями, отдельными предприятиями и топливными комитетами, осуществлялась также массовая вырубка (хищение) леса местным населением. Самовольные порубки на свой страх и риск велись жителями всех губерний Среднего и Нижнего Поволжья [22, л. 30–30 об.; 23, л. 252–253]. Борьба с ними на протяжении 1918–1930-х гг. являлась одним из основных направлений природоохранной деятельности региональных и местных органов власти. Губернскими и уездными властями неоднократно выпускались циркуляры и постановления об охране леса. Например, в мае 1920 г. были приняты «Временные правила о мерах охраны лесов по Самарской губернии» [24, л. 8], которыми были предусмотрены весьма строгие меры наказания за бесконтрольную рубку леса. А 12 августа 1920 г. Саратовский губисполком, в целях защиты леса от истребления, издал обязательное постановление, сурово карающее порубщиков. Однако хищения леса продолжались. По словам саратовского лесовода Н.Н. Кураева, не было исполнителей этих постановлений: «судьи не судили, милиция не взыскивала, стража не преследовала» [25].
Важнейшей проблемой являлась катастрофическая нехватка главных хранителей леса – лесных стражников [26, л. 7; 27, л. 178 об.; 28, л. 13]. Их полномочия были ограничены, а эффективность работы – низкой [29, л. 40]. Размер зарплаты работников лесного ведомства в годы Гражданской войны существенно снизился по сравнению с довоенным временем [30, л. 75 об.; 31, л. 6–7 об.; 32, л. 26], но даже это жалованье лесникам нередко задерживали [16, л. 39 об.; 21, с. 150–151]. Кроме того, в 1918–1919 гг. лесную стражу по всей стране обязали сдать имеющееся у нее служебное оружие, и выполнение служебных обязанностей лесниками часто заканчивалось трагически [16, л. 39 об., 40, 53]. За несколько месяцев 1921–1922 гг. только в Симбирском уезде были «убиты три лесника и у некоторых вырезаны семьи» [33]. Лесным кодексом 1923 г. лесничим, их помощникам и лесной страже было вновь разрешено ношение огнестрельного оружия, но эта мера практически не дала никаких результатов. «Население настолько распущено, – писал начальник Бугурусланского уездного земуправления Самарской губернии, – что открыто заявляет о бесполезности составления протоколов. Лесная стража подвергается систематическому преследованию со стороны населения. В 1925 г. у одного из лесников отравили лошадь, у другого от поджога сгорел дом, в 1926 г. лесник во время обхода был убит» [23, л. 247].
Фактически лесные стражники являлись в то время единственными борцами за сохранение леса на местах, и только они создавали реальные препятствия деятельности браконьеров, самоотверженно исполняя свой служебный долг. Однако рассчитывать на то, что охрана леса будет производиться в достаточной мере в условиях Гражданской войны и экономического кризиса, не приходилось.
Значительный ущерб лесам Поволжья наносили также пожары, наиболее масштабные из которых бушевали в 1920–1921 гг. Общее количество пожаров в Самарской губернии в 1920 г. составило 130 на площади 2,5 тыс. десятин. В 1921 г. их число увеличилось до 598 на площади 28,3 тыс. десятин [34, л. 6 об.]. В Симбирской губернии в 1920 г. пожарами было охвачено 12 тыс. десятин, а в 1921 г. – 25 тыс. десятин [35, л. 20 об.]. В Саратовской губернии лесные пожары бушевали в 1920 г. на площади в 4,7 тыс. десятин, а в 1921 г. – в 12,2 тыс. десятин [36, л. 2 об.].
Вследствие названных причин состояние лесного фонда Среднего и Нижнего Поволжья к середине 1920-х гг. оказалось неудовлетворительным. По словам Председателя Самарского Губисполкома, за период с 1918 по 1925 гг. лесное хозяйство в губернии практически не велось, а «все усилия органов управления лесами были направлены на охрану лесов от пожаров, хищений и безобразных их вырубок» [23, л. 260]. Требовалось немедленное развертывание масштабных лесовосстановительных работ. Охрана леса в регионах по-прежнему находилась в ведении лесных отделов при Губернских земельных управлениях [23; 37], а на местах – лесных подотделов уездных земельных отделов и волостных земельных отделов. В их функции входило лесовозобновление, лесоразведение, уход за лесом, надзор за его использованием, охрана леса от пожаров, вредителей, незаконных вырубок и многое другое. В период Гражданской войны мероприятия по лесоразведению и уходу за лесом почти не проводились, а в годы НЭПа они стали осуществляться регулярно [38, л. 312 об.; 39, л. 3–5]. Однако значительные успехи в 1922–1929 гг. были достигнуты лишь в сфере борьбы с лесными пожарами, так как была активизирована уборка остатков от вырубки на лесосеках, ужесточен контроль за местными жителями, находящимися в лесу, и организовано устройство противопожарных полос [40, с. 22, 100–101]. В летний период времени к выполнению обязанностей специальных пожарных сторожей в лесничествах стали привлекаться отдельные граждане [29, л. 17; 41, л. 45 об.].
В целом же состояние лесного фонда оставалось бедственным, а каких-то действенных природоохранных механизмов и государственных структур, непосредственно занимающихся охраной природы, в регионах страны еще не было создано. Только с 1925 г. при губернских исполкомах стали появляться местные междуведомственные комиссии по охране природы, подчиненные органам Наркомпроса РСФСР. Однако документов о деятельности этих комиссий обнаружить в архивах не удалось.
С 1925 года местные органы власти начинают больше внимания уделять охране природы, признавая ее значимость для страны. Как отметил Председатель Самарского Губземуправления «забота о сохранении и правильном использовании леса является одной из самых важных и неотложных задач местных советских учреждений» [37, л. 257]. В стране началось активное восстановление и развитие экономики, и в этой связи лесу стало больше уделяться внимания.
Первым важным шагом в направлении совершенствования системы охраны природы на местах стало учреждение при уездных земельных управлениях и волостных исполнительных комитетах штатных должностей уездных и районных лесоводов, которые способствовали предотвращению расхищения лесов местного значения и их правильному использованию [37, л. 257]. Все уездные и волостные исполкомы обязали оказывать должное внимание лесному хозяйству и всяческое содействие его работникам, в кратчайший срок предполагалось разработать ряд мероприятий, направленных на улучшение состояния лесного фонда. Лесным органам предлагалось ближе «подойти к массам и принять живое участие в культурно-просветительской работе, например, связаться с избой-читальней, кружками, школой» [23, л. 196–199, 261].
Однако, несмотря на отдельные успехи, во второй половине 1920-х гг. территориальная система управления охраной природы так и не была сформирована. А в начале 1930-х гг. сверхнормативные вырубки лесов государством возобновились в связи с развертыванием масштабного строительства объектов индустриализации по всей стране. «Телеграммы товарищей Молотова и Сталина обязывали выполнить программу по заготовкам леса любой ценой», – было сказано на одном из совещаний по лесному хозяйству при Куйбышевском Крайплане 27 октября 1935 г. [42, л. 36–37].
В соответствии с Постановлением СНК СССР от 31 июля 1931 г. весь лесной фонд страны был разделен на лесопромышленную зону, где планировалось производить рубки в соответствии с требованиями промышленного развития, и лесокультурную зону, где рубки должны были осуществляться с соблюдением правил лесного хозяйства. В лесопромышленной зоне Поволжья работали тресты Наркомата тяжелой промышленности СССР и Наркомата земледелия СССР: «Татлесхозтрест», «Средлес», «Лесхозтрест», «Саратовлес» и др. Лесозаготовки ими велись без учета темпов восстановительных процессов. За период с 1929 г. по 1931 г. «Средлес» вырубил 13 годовых хвойных лесосек, с 1932 г. по 1935 г. – 10 лесосек. Заготовка по хвойной лесосеке «Лесхозтреста» в 1932–1935 гг. также составила 10 лесосек. По отдельным участкам перерубы достигали еще более значительных размеров, как, например, в Борском лесхозе, где хвойные лесосеки были вырублены на 30 лет вперед [42, л. 2–3, 31]. Всего же с 1929 по 1935 г. по хвойной части лес был вырублен на 23 года вперед. В докладе «Средлеса» на бюро Средневолжского крайкома партии от 1932 г. признавалось, что «интенсивные рубки, проводимые в связи с буйным ростом социалистического строительства, ставят перед народным хозяйством в целом вопрос о сохранении постоянной сырьевой древесной базы от истощения» [43, л. 132].
Тресты обязаны были выполнять и лесовосстановительные функции, однако делалось это по остаточному принципу: уходу за лесом уделялось очень мало внимания, работа по очистке мест рубок и по выращиванию саженцев в питомниках выполнялась небрежно и несвоевременно [44, л. 36–37], участки лесозаготовительных работ захламлялись отходами от рубки, что приводило к их заражению насекомыми-вредителями. Причем, несмотря на большие площади заражения, серьезной борьбы с ними не велось [42, л. 5; 45, л. 28].
Все перечисленное стало причиной сокращения площади лесов. За три года (с 1929 г. по 1932 г.) процент лесистости в Среднем Поволжье снизился с 13,3% до 10,4%, то есть на 2,9%. Образовавшиеся пустыри подвергались выветриванию, а в юго-восточной части региона на их месте появлялись зыбучие пески [42, л. 1]. Уничтожение лесов вокруг городов замедляло естественное обновление в них воздуха, что особенно негативно сказалось на экологической обстановке в Поволжье в связи с постройкой десятков промышленных предприятий в 1930-е – 1940-е гг.
Таким образом, в середине 1930-х гг. необходимость в проведении лесовосстановительных, озеленительных и природоохранных мероприятий стала еще более острой, чем в середине 1920-х гг. Безудержное уничтожение ценных лесов страны нужно было срочно остановить, и 2 июля 1936 г. Совнарком СССР принял постановление, в соответствии с которым леса, расположенные в бассейнах рек Волга, Дон, Днепр, были выделены в особую водоохранную зону, рубки в которой должны были вестись в соответствии с годовым приростом» [46]. После этого объем лесозаготовок в Среднем и Нижнем Поволжье значительно сократился. Были развернуты широкие противопожарные и лесокультурные работы по всей территории региона, а также ужесточена охрана леса от самовольных порубок и пастьбы скота населением [43, л. 132–140]. Перед местными органами власти была поставлена задача – активно производить лесоаграрную мелиорацию: высаживать лес, плодовые и технические культуры на неудобных и бросовых землях, песках, оврагах и пр.; вести борьбу с неблагоприятными климатическими влияниями на сельское хозяйство путем высаживания защитных лесополос; заниматься озеленением городов, совхозов и колхозов, обсадкой гидротехнических сооружений [43, л. 134].
Большую роль в начавшихся изменениях в лучшую сторону сыграла реорганизация системы государственного управления охраной леса, которая произошла в 1936 г. по всей стране: было образовано Главное управление лесоохраны и лесонасаждений Совнаркома СССР, а при нем – территориальные управления лесоохраны и лесонасаждений, в том числе Средне-Волжское и Нижне-Волжское территориальные управления лесоохраны и лесонасаждений с центрами в городах Куйбышев и Сталинград соответственно [47]. Ситуация в сфере лесовосстановления, а значит и охраны природы в целом, значительно улучшилась. Специализированные органы справлялись с работами по посадкам леса гораздо лучше лесозаготовительных трестов. В 1937–1938 гг. Средне-Волжское управление уже смогло обеспечить посадку леса в Куйбышевском крае на площади 27137 га, что примерно соответствовало суммарному показателю за шесть предшествующих лет [48, л. 243 об. – 244].
Конечно, охрана лесов являлась не единственным направлением природоохранной деятельности советского государства в 1920-х–1950-х гг. Немалое значение для природы страны имело также создание системы особо охраняемых природных территорий: заповедников, заказников и памятников природы. Первым заповедником в РСФСР стал Астраханский заповедник, основанный в 1919 г. с целью «сохранения в неприкосновенном виде участков девственной природы в дельте Волги с характерным для них растительным и животным миром» [49, с. 264]. Положительные результаты его работы были отмечены профессором Б.М. Житковым, посетившим дельту Волги в 1936 г. Он писал: «…виды, раньше почти исчезнувшие в дельте, не только появились в заповеднике, но и размножились в таком количестве и образуют такие скопления, которые на неохраняемых территориях южных плавней можно было видеть разве несколько веков назад» [49, с. 278].
В Пензенской губернии в августе 1919 г., по ходатайству профессора И.И. Спрыгина, был образован заповедник «Попереченская степь», а в 1920 г. – еще два заповедника: «Сосновый бор» и «Сфагновые болота». Эти три заповедных участка в 1924 г. были объединены в единый Пензенский государственный заповедник Главнауки Наркомпроса РСФСР. В его состав позже вошли также «Арбековский лесостепной участок», «Белокаменский парк» [50, л. 45] и «Жигулевский участок», образованный в 1927 г. также по инициативе И.И. Спрыгина [51]. Сотрудниками заповедника, под руководством И.И. Спрыгина, велись широкие научные исследования, в основном ботанической направленности [50, л. 49 об.], а также природоохранная и просветительская работа. В 1928 г. состоялась экспедиция в Пугачевский и Бузулукский уезды на территории современных Саратовской, Самарской и Оренбургской областей, результатом которой стало создание в 1933 г. заповедника «Бузулукский бор» [50, л. 45].
В 1927 г. Пензенский заповедник был переименован в Средневолжский [52, л. 2–3], его территория постепенно увеличивалась, а тематика научных исследований становилась более разнообразной: изучались климат, почва, флора и фауна региона, велись работы по акклиматизации животных и растений. Кроме того, в 1927 г. несколько объектов и территорий региона были объявлены памятниками природы: Молодецкий курган, Лысая гора, Царев курган, устье реки Усы и др. [50, л. 13]. В 1935 г. Средневолжский заповедник стал Куйбышевским, и под этим названием он просуществовал до 1951 г., когда был ликвидирован, как и множество других, по решению Правительства РСФСР (в 1959 г. на части его территории был основан Жигулевский заповедник).
Великая Отечественная война значительно повлияла на экономику и состояние природной среды Поволжского региона. Из западной части страны сюда в 1941–1942 гг. было эвакуировано более 350 предприятий, и Поволжье превратилось в крупнейший военно-промышленный комплекс страны, для работы которого и строительства инфраструктуры требовались значительные природные ресурсы, прежде всего лес. Вновь возобновились масштабные, сверхнормативные вырубки [53, л. 125]. Работы по лесовосстановлению во время войны и сразу после нее проводились плохо, охрана леса была ослаблена, вновь увеличилось число пожаров и самовольных порубок. Исполком Куйбышевского областного Совета депутатов трудящихся в 1947 г. признал состояние лесного хозяйства области крайне неудовлетворительным и направил Докладную записку «Об оказании помощи Куйбышевской области в улучшении лесного хозяйства» заместителю Председателя Совета Министров СССР Г.М. Маленкову. В этом документе была высказана просьба о выделении области дополнительных денежных средств, специальной техники, кадров инженеров-лесомелиораторов и др. на восстановление разрушенного войной лесного фонда [53, л. 125–128]. Помощь была оказана.
Важным аспектом эколого-ориентированной деятельности местных органов управления мы считаем также охрану городской среды, благоустройство и озеленение населенных пунктов, так как поддержание на их территории благоприятных санитарно-гигиенических условий, создание зеленых зон и уход за местными садами и парками способствуют оздоровлению экологической обстановки. Этой работой руководили управления (отделы) коммунального хозяйства исполкомов районных, окружных и волостных Советов депутатов, при которых создавались секторы благоустройства, занимающиеся очисткой и озеленением улиц [54, л. 2 об.]. Работы по благоустройству и озеленению городов продолжались даже во время войны и после ее окончания. 22 июня 1944 г. Коллегией Наркома коммунального хозяйства РСФСР было принято постановление «О мероприятиях по сохранению и развитию садово-паркового хозяйства в городах РСФСР» [55, л. 7], в соответствии с которым в 1944–1945 гг. в городских управлениях благоустройства создаются специальные тресты зеленого хозяйства (Горзеленхозы). В их ведение были переданы все городские зеленые насаждения, лесопарки, питомники декоративных растений, оранжерейно-цветочные хозяйства и т.п. [56, л. 1–2]. Благодаря работе трестов озеленение городов шло значительными темпами. В Куйбышеве, например, только за 1951–1952 гг. было открыто 6 скверов, заложено 2 сквера и в них, а также на улицах города посажено 121 тыс. деревьев и 371 тыс. кустарников [57, л. 4, 6].
Охраной природы на территории городов и вокруг них занимались также Управления городскими лесами, задачами которых являлись санитарные рубки, посадка лесокультурных насаждений, охрана городских лесов от порубок и порчи, проведение оргмассовой работы среди населения, привлечение общественности к работе по посадкам деревьев и кустарников [58, л. 15–16]. В 1948 г., в соответствии с приказом Министерства Лесного хозяйства СССР от 10 сентября 1947 г. за № 422, местные исполнительные власти принимают решения о создании зеленой зоны вокруг городов, в частности, Ульяновска, Куйбышева, Саратова [59, л. 7]. Лесные полосы, высаженные вдоль их границ, обеспечивали улучшение санитарно-гигиенических условий жизни населения городов, оздоровление экологической обстановки.
Определенную роль в деле охраны природы играли также территориальные управления охотничьего хозяйства при областных исполкомах. Конечно, их отношение к фауне носило в большей степени утилитарный характер, однако в их функции входило изучение и выявление запасов фауны, охрана охотничьих угодий и соблюдение мер по их правильной эксплуатации. Так, в 1951–1952 гг., в связи с подготовкой к затоплению территорий при строительстве Жигулевской ГЭС, Управление охотничьим хозяйством Куйбышевского облисполкома произвело обследование фауны птиц и млекопитающих в зоне затопления в Ставропольском районе, а также на правобережной части Волги и в Бузулукском бору. В 1952 г. были обследованы водоемы Безенчукского района на предмет обитания в них выхухоли, а также произведена пересадка выхухоли с территорий, подлежащих затоплению, в озера поймы реки Иргиз Пестравского и Большеглушицкого районов в количестве 200 голов [60, л. 1–2, 18]. Управления охотничьего хозяйства, совместно с добровольно-спортивными охотничьими обществами вели активную борьбу с браконьерством. С этой целью в весенний период в границах охотничьих резерватов устанавливалась специальная охрана.
Таким образом, проанализировав характер природопользования и состояние природной среды, а именно лесного фонда Среднего и Нижнего Поволжья в исследуемый период, можно сделать вывод о наличии множества проблем, вызванных, прежде всего, интенсивными вырубками лесов в годы топливного кризиса, индустриализации и Великой Отечественной войны. Региональные и местные органы управления – исполкомы Советов различных уровней занимались решением природоохранных проблем, но эта работа не носила системного характера, поэтому и не приносила заметных результатов. В эпохи социально-политических потрясений, войн, экономических кризисов и резких скачков индустриального развития, которые чередовались в нашей стране на протяжении всей первой половины ХХ в., интересы природы отходили на второй план, их приносили в жертву интересам государства. В итоге уже в конце 1950-х – начале 1960-х гг. обнаружилось наличие целого комплекса экологических проблем, срочно требующих для своего решения формирования государственной системы управления охраной природы как на общероссийском, так и на региональном уровнях, создания нового природоохранного законодательства и подъема общественного экологического движения. Все эти события начались уже в 1960 г., который стал переломным в истории охраны природы России.
Об авторах
Екатерина Дмитриевна Макеева
Самарский государственный социально-педагогический университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: katrin0509@mail.ru
Кандидат исторических наук, доцент кафедры физики, математики и методики обучения
Россия, 443090, Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 26Список литературы
- Бусыгин А.Г. Десмоэкология или теория образования для устойчивого развития. Книга первая. 2-е изд. Ульяновск: Симбирская книга, 2003. 216 с.
- Зубаков В.А. Куда мы идём: к экокатастрофе или к экореволюции? // Философия и общество. 1998, № 1. С. 191–239.
- Моисеев Н.Н. Современный антропогенез и цивилизационные разломы. Эколого-политологический анализ. М.: МНЭПУ, 1994. 47 с.
- Реймерс Н.Ф. Надежды на выживание человечества. Концептуальная экология. М.: Россия молодая, 1992. 367 с.
- Вайнер Д. Экология в Советской России. Архипелаг Свободы: заповедники и охрана природы. М.: Прогресс, 1991. 397 с.
- Евланов В.В. Экологическая проблема в СССР: поиск путей ее решения (50-е – первая половина 80-х годов): дис. … д-ра ист. наук. М., 1993. 369 с.
- Палехова П.В. Государственная экологическая политика и ее реализация в Российской Федерации в 1950–1990-е годы: дис. … д-ра ист. наук. М., 2000. 480 с.
- Соколов В.В. История экологической политики в Российской Федерации, 1920–1930-е годы: дис. … д-ра ист. наук. М., 1995. 330 с.
- Акмурзина О.О. Деятельность местных органов власти Среднего Поволжья в решении задач первой пятилетки в области промышленности: 1928–1933 гг.: дис. … канд. ист. наук. Самара, 2006. 171 с.
- Булюлина Е.В. Формирование и деятельность местных органов государственной власти и управления в Нижнем Поволжье. 1917–1928 гг.: дис. … д-ра ист. наук. Волгоград, 2012. 479 с.
- Воейков Е.В. Решение топливной проблемы в Поволжье в 1918–1941 гг.: дис. … д-ра ист. наук. Пенза, 2015. 487 с.
- Тупиков А.В. Экологическая политика Советского государства в 1970–80-е годы: на материалах государственных органов, партийных и общественных организаций областей Поволжья: дис. … канд. ист. наук. Саратов, 1993. 187 с.
- Национальный архив Республики Татарстан. Ф. 174. Оп. 1. Д. 1.
- Временное Положение о лесном управлении в губерниях и областях от 12 января 1918 г. // СУ РСФСР. 1918. № 15. Ст. 220.
- Центральный государственный архив Самарской области (далее – ЦГАСО). Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 216.
- ЦГАСО. Ф. Р-235. Оп. 1. Д. 3.
- Топливные ресурсы и перспективы топливоснабжения Саратовской губернии и Заволжского района в 1921 году // Экономическая жизнь. 1921. № 5–6.
- Государственный архив Пензенской области (далее – ГАПО). Ф. Р-442. Оп. 1. Д. 179.
- ГАПО. Ф. Р-952. Оп. 1. Д. 10.
- ГАПО. Ф. Р-1075. Оп. 1. Д. 10.
- Смелый А. Деятельность Пензенского губернского лесного отдела за период 1919–1924 гг. // Природа и хозяйство Пензенского края. 1924. № 2–3. С. 149–151.
- Российский государственный архив экономики (далее – РГАЭ). Ф. 478. Оп. 9. Д. 605.
- ЦГАСО. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 736.
- ЦГАСО. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 568.
- Кураев Н.Н. Лес гибнет // Известия. Саратов. 1922. 14 января. С. 2.
- Государственный архив Российской Федерации. Ф. А-259. Оп. 8 Б. Д. 2525.
- ЦГАСО. Ф. Р-3550. Оп. 1. Д. 18.
- ЦГАСО. Ф. Р-3557. Оп. 1. Д. 1.
- ЦГАСО. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 563.
- Государственный архив Ульяновской области (далее – ГАУО). Ф. Р-337. Оп. 1. Д. 433.
- ЦГАСО. Ф. Р-644. Оп. 1. Д. 115.
- ЦГАСО. Ф. Р-644. Оп. 1. Д. 402.
- -й Симбирский губернский съезд техников лесного дела // Экономический путь. 1922. 18 февраля. С. 2.
- РГАЭ. Ф. 478. Оп. 9. Д. 1567.
- ГАУО. Ф. Р. 337. Оп. 1. Д. 53.
- ГАСО. Ф. Р-313. Оп. 1. Д. 1434.
- ЦГАСО. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 735.
- ЦГАСО. Ф. Р-3547. Оп 1. Д. 41.
- ЦГАСО. Ф. Р-3557. Оп. 1. Д. 3.
- Действующие распоряжения по лесному управлению. С приложением Лесного кодекса / сост. Т.В. Нехорошев. Петроград: издание Петроградского лесного отдела, 1924. 388 с.
- Самарский областной государственный архив социально-политической истории (далее – СОГАСПИ). Ф. 1. Оп. 1. Д. 2676.
- ЦГАСО. Ф. Р-751. Оп. 9. Д. 145.
- СОГАСПИ. Ф. 1141. Оп. 20. Д. 725.
- ГАПО. Ф. Р-430. Оп. 1. Д. 119.
- ЦГАСО. Ф. Р-751. Оп. 9. Д. 130.
- Об образовании Главного Управления лесоохраны и лесонасаждений при Совете Народных Комиссаров СССР и о выделении водоохранной зоны. Постановление СНК СССР от 2 июля 1936 г. № 1162 // СЗ СССР. 1936. № 35. Ст. 311.
- О структуре Главного Управления лесоохраны и лесонасаждений при СНК СССР. Постановление СНК СССР от 8 августа 1936 г. № 1432 // СЗ СССР. 1936. № 44. Ст. 379.
- СОГАСПИ. Ф. 656. Оп. 30. Д. 474. Л. 243.
- Кривоносов Г.А., Живогляд А.Ф. Астраханский заповедник // Заповедники европейской части РСФСР / под ред. В.В. Соколова, Е.Е. Сыроечковского. М.: Мысль, 1989. С. 264–292.
- ЦГАСО. Ф. Р-779. Оп. 2. Д. 928. Л. 45.
- ЦГАСО. Ф. Р-558. Оп 1. Д. 176.
- ЦГАСО. Ф. Р-81. Оп. 1. Д. 857.
- ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 6. Д. 221.
- ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 1. Д. 757.
- ЦГАСО. Ф. Р-2384. Оп. 1. Д. 14.
- ЦГАСО. Ф. Р-2384. Оп. 1. Д. 13.
- ЦГАСО. Ф. Р-56. Оп. 51. Д. 462.
- ЦГАСО. Ф. Р-2384. Оп. 1. Д. 18.
- ЦГАСО. Ф. Р-2384. Оп. 1. Д. 22.
- ЦГАСО. Ф. Р-4405. Оп. 1. Д. 2.
Дополнительные файлы