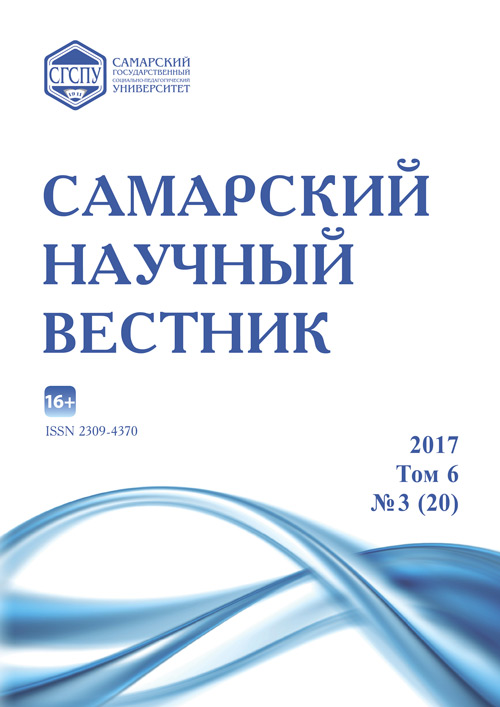Самарское краеведческое движение 1920-1930-х годов и его вклад в изучение и охрану природы Среднего Поволжья
- Авторы: Макеева Е.Д.1
-
Учреждения:
- Самарский государственный социально-педагогический университет
- Выпуск: Том 6, № 3 (2017)
- Страницы: 246-252
- Раздел: 07.00.00 – исторические науки и археология
- URL: https://snv63.ru/2309-4370/article/view/22111
- DOI: https://doi.org/10.17816/snv201763228
- ID: 22111
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Изучение российской экологической истории является одной из актуальных задач современной науки, так как позволяет перенять полезный исторический опыт в условиях обострения взаимоотношений общества и природы. Охрана природы в России всегда была тесно связана с исследованием малой родины, своего родного края, являясь одним из важнейших направлений как научного, так и любительского краеведения. В данной статье рассматривается вклад в изучение и охрану природы Среднего Поволжья самарского краеведческого движения в 1920–1930-е гг., в том числе одного из самых значимых научных обществ того времени – Самарского общества археологии, истории, этнографии и естествознания и его преемника. В его составе в «золотой век краеведения» (1920-е гг.) работали самые известные самарские ученые, оставившие уникальное научное наследие. Их труды заложили основы современного естественнонаучного краеведения, заповедного дела и общественного движения за охрану природы в Самарской области. Источниками для подготовки статьи послужили, в основном, материалы Центрального государственного архива Самарской области. Значительное количество архивных документов впервые вводится в научный оборот, что составляет научную новизну исследования.
Полный текст
На протяжении столетий краеведение является своеобразной формой общественного социокультурного движения. Деятельность краеведов-любителей всегда была направлена на исследование прошлого и настоящего родного края, его природы, а также популяризацию полученных сведений среди местного населения. Начиная со второй половины XVIII в., наряду с любительским краеведением в России развивается научное краеведение. Его центрами в XIX в. становятся провинциальные университеты (в Казани, Харькове, Киеве, Одессе), местные отделения научных обществ, а также первые краеведческие музеи. «Золотым десятилетием» отечественного краеведения, то есть периодом его небывалого распространения, считаются 1920-е гг., когда число краеведческих организаций в стране увеличилось в десять раз [1, с. 9–10]. Это десятилетие в истории краеведения занимает особое место, так как именно оно стало временем формирования по-настоящему массового краеведческого движения, существовавшего в форме разнообразных добровольных и государственных объединений и союзов граждан, функции которых заключались во всестороннем изучении отдельных регионов и местностей страны.
Особенно интересна и разнообразна история поволжского, в том числе, самарского краеведения, которое по своей общей направленности, выработке форм и методов работы, энтузиазму всегда стояло в ряду наиболее активных. Благодаря краеведческому движению на территории Самарской губернии в 1920-е гг. получили развитие различные направления научных исследований в сфере археологии, этнографии, геологии, зоологии, ботаники. Деятельность краеведов способствовала не только обнаружению сведений о заселении местного края, его древней истории, геологическом строении, особенностях животного и растительного мира и т.д., но и выявлению и подробному изучению природных территорий, нуждающихся в особо бережном отношении и охране в силу своей уникальности, а также популяризации природоохранных идей среди населения.
Целью нашего исследования явилось изучение роли Самарского краеведческого движения в исследовании и охраны природы Среднего Поволжья.
Научное изучение природы Самарского края началось еще в XVIII в., когда на его территории побывали экспедиции путешественников и естествоиспытателей: П.С. Палласа, И.И. Лепёхина, И.П. Фалька. В их трудах содержатся подробные сведения о флоре и фауне исследованной территории. В начале XX в. в Среднем Поволжье в разное время работали видные ученые России: ботаники В.Н. Сукачев, Г.Н. Высоцкий, В.И. Талиев, почвоведы А.И. Бессонов, С.С. Неуструев, Л.И. Прасолов и др. Именно в научной среде зародились идеи о необходимости целенаправленной работы по сохранению природы региона. Профессор Санкт-Петербургского лесного института В.Н. Сукачев еще в 1914 г. призывал правительство и общественность страны создать в Жигулевских горах заповедник. Однако плодотворное развитие и воплощение в жизнь природоохранных идей на территории Среднего Поволжья связано, прежде всего, с деятельностью научно-краеведческих обществ Пензенской и Самарской губерний, в состав которых в те годы входила, в основном, местная интеллигенция: краеведами были ученые – историки, биологи и географы, работники музеев, учащиеся и преподаватели местных школ и высших учебных заведений, сотрудники советских и хозяйственных органов.
В 1918 г. в Самаре был основан государственный университет, а в 1919 г. при нем открылось Самарское общество археологии, истории и этнографии (СОАИЭ), на базе существовавшего в городе с 1916 г. археологического общества [2, л. 1]. Первым председателем СОАИЭ был избран А.С. Башкиров, занимавший этот пост в 1919–1922 гг. После него обществом руководили П.П. Фридолин (1922–1923 гг.), В.П. Арапов (1923–1928 гг.) и П.А. Преображенский (1928–1930 гг.). Деятельность СОАИЭ первое время протекала в крайне неблагоприятных условиях, так как не было собственного помещения, и наблюдался «крайний недостаток в материальных средствах. В течение почти 10 месяцев (с ноября 1919 г. по август 1920 г.) Общество работало совсем без кредитов и легализации» [2, л. 6]. Пришлось изыскивать средства в виде пожертвований, которые были внесены Самарским Губисполкомом, Средне-Волжским Союзом Потребителей и Правлением Кооператив Банка. Эти деньги, хоть и не покрыли всех нужд общества, по крайней мере, позволили ему просуществовать первое время. После трех месяцев ходатайств в Москве, А.С. Башкиров добился легализации Общества и открытия ему кредита в один миллион рублей [2, л. 4 об.]. Усилия для этого были потрачены немалые. Безусловно, время было очень тяжёлое, и у руководства молодой Советской республики были дела более важные, чем развитие краеведческого движения. Однако в своем городе, несмотря на трудные времена, СОАИЭ встречало поддержку со стороны местных правительственных и общественных учреждений, а также отдельных лиц, как в Самаре, так и в различных уездах. А члены общества, по их собственным словам, получали «полное нравственное удовлетворение и уверенность в выполнении всех намеченных планов: детального обследования Самарского края» [2, л. 6].
К концу 1920 года в СОАИЭ состояло уже 54 человека: действительных членов-учредителей – 14 человек, действительных членов – 19 человек и членов-сотрудников – 21 человек [2, л. 4]. Несмотря на трудности, Общество открывало свои отделения в уездных центрах, например, в 1919 г. в его состав были приняты Пугачевское археологическое общество и Ставропольское общество по изучению местного края [3, л. 9].
В мае 1922 г. в составе общества была организована секция естествознания, внесены изменения в его Устав, и с этого момента СОАИЭ стало называться «Самарское общество археологии, истории, этнографии и естествознания» (СОАИЭиЕ) при Самарском государственном университете [4, л. 1]. Его целью являлось «изучение духовной и материальной культуры прошлого и настоящего, природы и народов, населяющих Самарский край и прилегающие к нему области, содействие в распространении знаний» [5, л. 14]. А среди его основных задач значились: организация наблюдений за природой, сбор коллекций для музея, проведение научных конференций, экспедиций, организация лабораторий и опытных станций, издание научных трудов и создание научной библиотеки [5, л. 14 об. – 15]. С этого момента изучение и охрана природы края становится одним из основных направлений деятельности общества.
Успешная работа СОАИЭиЕ уже в 1922 г. была отмечена Центральным бюро краеведения, а также Президиумом Самарского Губисполкома [4, л. 6], однако, в условиях войны и экономического кризиса работа по-прежнему протекала в «исключительно тяжёлых условиях: не было средств не только на научные исследования, но и на отопление занимаемого помещения» [4, л. 6]. Со временем экономическая ситуация в Поволжье улучшилась, и, начиная с 1924 г., СОАИЭиЕ стало понемногу финансироваться Губисполкомом, с 1928 г. обществу ежегодно выделялось 5000 руб. из областного бюджета и 1500 руб. из Облплана [6, л. 4 об.]. Регулярные денежные поступления позволили краеведам активизировать издательскую, научно-исследовательскую и просветительскую деятельность. Были опубликованы сборник «Краеведение» (1924 г.) и справочник «Вся Самара за 1925 год» (1925 г.) [7, л. 1 об.], составлен библиографический указатель литературы по геологии края, обследованы в геологическом отношении большая часть Самарской Луки, северной Приволжской полосы и дюн реки Самары в пределах Бузулукского уезда, выявлено наличие торфяных болот и залежей торфа в пределах Самарского, Мелекесского, Бузулукского и Бугурусланского уездов, обследованы соляные источники близ села Усолья и изучена возможность их эксплуатации, систематизирован гербарный материал и составлен определитель растений Самарского края [8, с. 3]. Членами общества в 1924 г. был прочитан цикл лекций общедоступного характера по вопросам краеведения и естествознания под общим названием «Богатства Самарского края» в Самарском губернском музее, а также опубликована серия заметок и статей в местной газете «Коммуна» об истории края, его освоении людьми, различных исторических событиях, местных природных богатствах и достопримечательностях – Серной горе, Царевом кургане, Самарской Луке и т.д. [9, л. 8 об.].
Весной 1927 г. членами секции естествознания СОАИЭиЕ в школах Самары была развернута сеть фенологических наблюдений (наблюдений за сезонными явлениями природы, сроками их наступления и причинами, определяющими эти сроки). Инициаторами и организаторами этого проекта были В.П. Арапов, Б.Н. Медведев и А.Ф. Терехов [10, л. 14]. В.П. Арапов справедливо считал, что «организация фенонаблюдений в школах – это один из лучших приемов развития у учащихся сознательного отношения к явлениям окружающей природы» [11, л. 23]. В ходе этой работы школьниками собирался достаточно ценный материал, который обобщался в специальных «дневниках природы», и позволял ученым-краеведам делать важные научные выводы.
Исследуя природу Среднего Поволжья, самарские краеведы пристальное внимание обращали на Бузулукский бор, где еще в начале ХХ в. по инициативе русского ученого Г.Ф. Морозова было учреждено первое в стране опытное лесничество и начались поиски эффективных научных приемов лесоразведения. В 1926–27 гг. краеведами были организованы научные экспедиции в Бузулукский бор, итогом которых стал вывод о том, что главной угрозой для него является деятельность человека, и поэтому антропогенное влияние на этот участок природы необходимо ограничить [12, л. 35]. Проблема сохранения и восстановления Бузулукского бора неоднократно обсуждалась на заседаниях СОАИЭиЕ [12, л. 34], и, именно благодаря многолетней планомерной работе ученой общественности 1933 г. был создан заповедник «Бузулукский бор», просуществовавший до 1948 г. [13, л. 45]. В дальнейшем на его территории находился государственный заказник.
Также члены СОАИЭиЕ поддержали идею известного ученого, директора Пензенского государственного заповедника И.И. Спрыгина о выделении заповедной территории в Жигулевских горах. Была организована комплексная экспедиция по изучению природы Жигулей, и в 1927 г. на территории Самарской Луки открылся Жигулевский участок Пензенского государственного заповедника площадью в 2300 гектаров, куда вошли села Отважное, Моркваши, Бахилова поляна, овраги Малиновый и Холодный [14, л. 1]. В связи с увеличением площади, Пензенский государственный заповедник был переименован в Средневолжский [13, л. 72; 15, л. 49]. Кроме того, несколько объектов и территорий Среднего Поволжья получили статус памятников природы: Молодецкий курган, Лысая гора, Царев курган, устье реки Усы и др. [13, л. 45]. Порубку леса и разработку камня в намеченных участках считалось необходимым запретить. В 1935 г. Средневолжский заповедник стал Куйбышевским, и под этим названием он просуществовал вплоть до своей ликвидации в 1951 г. (в дальнейшем, в 1959 г. на части его территории был основан Жигулевский заповедник).
1927 год вообще стал весьма продуктивным в плане развития природоохранного дела в России. По всей стране при губернских отделах народного образования (ГубОНО) были образованы междуведомственные комиссии по охране природы. Появилась такая комиссия и в Самаре [16, л. 250], причем работала при Самарском обществе археологии, истории, этнографии и естествознания и под руководством его председателя – В.П. Арапова. Наркомпрос РСФСР уполномочил именно его, главу местного научно-краеведческого общества, быть представителем Отдела охраны природы Главнауки в Самарской губернии, а ГубОНО возложило на него всю работу по организации комиссии. Необходимо отметить, что Владимир Петрович Арапов сыграл огромную роль в становлении дела охраны природы в Самаре, фактически он руководил всей природоохранной работой в СОАИЭиЕ – единственной организации, которая в то время планомерно и квалифицированно изучала природу Самарской губернии. И даже покинув пост председателя СОАИЭиЕ в 1928 г., В.П. Арапов продолжил свою деятельность, оставаясь руководителем секции естествознания общества.
Самарская междуведомственная комиссия по охране природы состояла из 28 человек, в нее входили представители как общественных организаций, так и местных органов власти и учреждений: Губисполкома, Губоно, Губземуправления, Горздрава, Губкома ВЛКСМ, Горсовета, местных научно-исследовательских учреждений и обществ (Безенчукской сельскохозяйственной опытной станции, областного музея, Научного общества врачей, СОАИЭиЕ, Приволжского геодезического комитета, Волжского горного округа, сельскохозяйственного института), а также сотрудников Главлесоохраны [17, л. 130–131]. На первом же заседании комиссии состоялось обсуждение вопроса об учреждении Жигулевского заповедника. В своем докладе В.П. Арапов с сожалением констатировал, что «ценным местом для заповедника мог бы служить Яблоневый овраг под Морквашами, хорошо исследованный и очень интересный в геологическом отношении, но, вследствие порубки леса, это место уже обесценено в отношении естественных исследований» [14, л. 1]. Также члены комиссии обсуждали вопросы, связанные с созданием степных заповедников Бузулукская степь (Козявка) и Пугачевская степь [14, л. 1 об.]. Со стороны Главнауки РСФСР и местных органов власти наблюдалось благоприятное отношение к созданию новых охраняемых природных территорий, но существенным препятствием были финансовые трудности [14, л. 2]. Денег на охрану природы у страны по-прежнему не было, эта сфера деятельности оставалась второстепенной, однако разногласий между властью и общественностью в данной сфере еще не возникало. Ситуация резко изменилась в конце 1920-х – начале 1930-х гг., когда Советский Союз взял курс на индустриализацию, и было развернуто масштабное социалистическое строительство. Интересы природы были принесены в жертву потребностям развития промышленности и научное сообщество и общественные силы, пропагандирующие природоохранные идеи, стали восприниматься властью как помеха в реализации грандиозных планов «покорения природы». Призывам ученых – краеведов и естествоиспытателей к сбережению природных богатств зачастую придавалась политическая окраска, поэтому вместе с началом широкомасштабной индустриализации в СССР начинаются гонения краеведческого, а вместе с ним и природоохранного движения.
После массовых проверок и перерегистрации, состоявшихся по всей стране в 1929–1930 гг., многие краеведческие, научные и природоохранные общества в регионах, созданные еще до революции или вскоре после нее, были закрыты или реорганизованы, прикреплены к соответствующему вузу, научному или другому государственному учреждению. Те же, что остались, были вынуждены существенно изменить характер своей деятельности. В Самаре в 1927 г. из-за финансовых трудностей был университет, и, в связи с этим, в марте 1929 г. было реорганизовано и состоящее при нем Общество археологии, истории, этнографии и естествознания. Вместо него было образовано Самарское научно-краеведческое общество (СНКО), деятельность которого, в соответствии с новыми установками партии и правительства, предполагалось, во-первых, направить в русло массовой работы, а, во-вторых, увязать с выполнением пятилетнего плана народного хозяйства края [20, л. 47–47 об.]. Соответственно, и целью общества стало «изучение производительных сил округа и краеведческое изучение всего Средневолжского края с привлечением к этой работе желающих: не только отдельных лиц, но и целых учреждений, заинтересованных в знании края» [21, л. 12]. Необходимо отметить, что на рубеже 1920–1930-х гг. произошла переориентация всего советского краеведческого движения с изучения местного края в научных и просветительских целях на изучение местного края в целях поиска ресурсов, полезных для народного хозяйства страны. Эта переориентация существенно изменила как направления деятельности краеведческого движения, так и формы его организации.
Лучшую характеристику целей и задач своей работы на данном этапе дали сами краеведы: это «борьба с природой, отвоевывание у нее тех нужных для человечества богатств, которые она запрятала в недра земли. Краеведам нужно заниматься исследовательскими работами во многих областях нашего народного хозяйства, им нужно помогать развитию нашего социалистического строительства, обеспечивать его сырьем» [18, л. 109 об.]. Это высказывание принадлежит ученому секретарю Бугурусланского краеведческого общества Аниховскому. А вот как на первом же собрании сформулировали задачи своей деятельности члены Кружка краеведов-натуралистов, созданного в 1931 г. при Боровой опытной лесной станции: борьба с браконьерством, распространение природоохранных идей среди широких масс населения, а также борьба «с сюсюкающим либерализмом, ставящим охрану природы исключительно ради эстетических целей, мешающих строительству социализма. … Работа нашей организации должна иметь целью выявление природных богатств Бузулукского бора, находящихся до сего времени в стадии омертвления, а также охрану ценных и редких объектов от хищнического истребления браконьерами для создания возможностей рационального использования их государством» [19, л. 5–6].
В Поволжье в конце 1920-х гг. были изменены административные границы: в мае 1928 г. Самарская губерния вошла в состав Средне-Волжской области (с октября 1929 г. – Средне-Волжский край). Было образовано Средне-Волжское краевое бюро краеведения, в составе которого в 1931 г. появилась секция изучения и охраны природы [22, л. 59]. Краевое бюро краеведения, в отличие от СОАИЭиЕ или СНКО, уже не являлось добровольной общественной организацией, так как оно было создано по формальному признаку официального представительства от местных учреждений и организаций. Территория Средне-Волжского края делилась на округа, и в каждом из них в 1930–1932 гг. были созданы окружные краеведческие бюро «взамен или на базе обществ краеведения» [18, л. 6]. Особое внимание стало уделяться привлечению населения к краеведческой работе с целью повышения ее массовости. Об этом говорилось практически в каждом плане и отчете [19, л. 14, 41–44; 22, л. 26–31, 33–34], на каждом заседании, совещании или съезде краеведов подчеркивалось, что успехи всестороннего изучения природы, хозяйства и культуры края в целях социалистического строительства возможны только при условии «широкого вовлечения в краеведческое движение и работу Общества трудящихся масс города и деревни» [11, л. 39].
Во многих районах до этого краеведческая работа совершенно не велась [18, л. 14, 20], и поэтому организации здесь создавались практически «на пустом месте», по указанию «сверху». Не было для этого ни соответствующих кадров, ни средств, ни специальной литературы, о чем свидетельствуют многочисленные письма с жалобами и просьбами о помощи, поступающие в Краевое бюро краеведения, руководство которого базировалось в Самаре, из городов и районов всего Средне-Волжского края [18, л. 4, 14, 15, 20, 34 об., 39, 68, 152, 153 и др.]. В них также отмечалось, что на местах люди очень равнодушно относятся к краеведческой работе, и даже в райцентрах никто не принимает в ней горячего участия [18, л. 20]. Так, председатель Мелекесского райбюро краеведения Леонтьев писал: «Главным препятствием к развертыванию краеведческой работы является отсутствие средств на эту работу и косность общественных организаций» [18, л. 83]. И это неудивительно, ведь если в губернских центрах костяк краеведческого движения составляла научная интеллигенция: местные ученые, преподаватели вузов и сотрудники музеев, то в глубинке деятельность общественных организаций чаще всего строилась на энтузиазме местных учителей, а их социальный состав был совсем иной. Например, в Бугурусланском районно-городском обществе краеведения в 1930 г. состояли: крестьяне – 51%, служащие – 37,5%, рабочие – 11,5%. Естественно, крестьянство, составлявшее более половины членов местных краеведческих ячеек, и вступавшее в них, чаще всего, по принуждению колхозного начальства, в силу своей необразованности просто не могло осуществлять работу по исследованию местного края на том же уровне, что и городская интеллигенция.
В итоге появилось множество новых краеведческих ячеек и бюро в отдельных учреждениях, городах, райцентрах и селах, деятельность которых носила, зачастую, формальный характер. В 1932 г. в городах и районах Средне-Волжского края существовало 35 краеведческих организаций, а также 316 краеведческих ячеек и кружков юннатов (при школах, техникумах, домах работников просвещения, колхозах, заводах, фабриках, сельсоветах, редакциях местных газет) с общим количеством членов 5054 человек [18, л. 7]. В отдельных случаях краеведы сами вынуждены были признать, что их организации либо существуют только на бумаге, либо ведут работу в крайне малом объеме, не выполняя поставленные задачи.
В связи с развертыванием широкой программы по превращению Среднего Поволжья в передовой индустриально-аграрный край, значительно активизировалась научно-исследовательская работа по изучению природы данных территорий. Краеведческие организации получали задания по поиску и изучению местных природных богатств: энергетических ресурсов, полезных ископаемых, сырья для изготовления строительных материалов, сельскохозяйственных ресурсов; экономическому обоснованию гидростроительства и т.д. Однако идеи охраны природы не были забыты Самарским научно-краеведческим обществом, в его составе появилась секция по изучению естественно-исторических условий, председателем которой стал В.П. Арапов. На первом же ее заседании был заслушен доклад И.И. Спрыгина «Методы исследования охраны природы края» [23, л. 22].
Начиная с 1929 г., деятельность СНКО постепенно приходила в упадок, и в 1931 г. оно было ликвидировано. Это событие было следствием репрессий в отношении старейших краеведов и деятелей охраны природы, ученых дореволюционной школы, начавшихся в Москве, а затем перекинувшихся в регионы. В сентябре 1930 г. было арестовано около 60 членов СНКО, в том числе и В.П. Арапов. Все они проходили по уголовному делу так называемой Трудовой Крестьянской партии (ТКП). После этого общество было закрыто, а его богатейшие коллекции и библиотека переданы Самарскому краевому музею и педагогическому институту. Незадолго до ликвидации, на собрании общества прозвучало, что, несмотря на открытие нескольких отделений СНКО в городах, селах и райцентрах края, вовлечь в краеведческую работу народные массы так и не удалось из-за отсутствия средств и сил. Особенно сложно поддерживалась связь с краеведческими ячейками на местах, где от СНКО требовали предоставления специальной литературы и оборудования. Общество удовлетворить эти требования было не в состоянии. Недостаточное вовлечение населения в краеведческую работу, означавшее невыполнение директив партии и вышестоящих органов, стало одной из причин закрытия Самарского научно-краеведческого общества.
В.П. Арапов в 1931 г. был приговорен к 10 годам заключения, однако, благодаря многочисленным ходатайствам научной общественности, дело против него вскоре было пересмотрено, и в 1934 г. он был условно освобожден. Ему удалось устроиться на работу в Ботанический сад, где он вновь попытался развернуть работу по изучению природы Самарского края. Однако в октябре 1937 г. В.П. Арапов снова был арестован. Его и других членов СНКО обвинили в том, что их организация «объединяла в своем составе реакционно-монархическую верхушку старой научной интеллигенции, бывших церковников и прочий контрреволюционный элемент, который был использован в активной борьбе против Советской власти и ВКП(б) контрреволюционной организацией «Трудовая крестьянская партия», ликвидированной в 1930 г. органами ОГПУ [24, с. 89–98]. 15 февраля 1938 г. Арапов В.П. и некоторые другие самарские краеведы были расстреляны. А оставшиеся в живых члены СНКО были отправлены по этапу в лагеря, где многие из них скончались. К сожалению, такова была судьба многих советских ученых, активно пропагандирующих в 1930-е гг. идеи охраны природы.
После закрытия СНКО краеведческая работа в Самаре продолжалась силами местных ячеек и бюро краеведения, еще несколько лет активно шло изучение природы и производительных сил Среднего Поволжья. Средневолжское краевое бюро краеведения ежегодно организовывало геологоразведочные экспедиции, в ходе которых были найдены залежи горючих полезных ископаемых: торфа, сланцев; сырья для производства строительных материалов: известняка, мела, глин, щебня; различных руд, фосфоритов и др. Особенно массовый геологический поход «за сырьем для станков второй пятилетки» состоялся в 1933 г. Руководил этим походом Крайисполком, а участвовали в его проведении местные органы власти каждого района: Райисполкомы, Райпланы, РайОНО, РК ВЛКСМ, райдоротделы и другие организации. К геопоходу были привлечены учащиеся школ, студенты техникумов и вузов, рабочие. Также исследовались местные водоемы, которые, разливаясь, подтапливали территории, изучалась флора на предмет поиска мест произрастания лекарственных растений. В связи с разработкой проектов масштабного гидростроительства на Волге и Каме краеведами были начаты работы по изучению природных условий в Татарской республике и на Самарской Луке [22, л. 22 об., 23, 35, 36, 36 об., 42–45]. Продолжались и фенологические наблюдения, начатые под руководством В.П. Арапова. В 1934 г. на территории края действовало 89 фено-точек, а в 1935 г. был основан центр фенологических наблюдений.
Средне-Волжское бюро краеведения просуществовало до 1935 г., после чего было реорганизовано, и вместо него появилось Общество изучения Куйбышевского края, которое продолжило многие темы исследований, выдвинутые краеведами ранее [25, с. 37–40]. Оно проработало всего три года (с 1935 по 1937 гг.), и сведений о его деятельности сохранилось немного. Однако известно, что в 1936 г. Обществом изучения Куйбышевского края, совместно с отделом народного образования Крайисполкома, была предпринята попытка открыть краевое отделение Всероссийского общества охраны природы (ВООП), и с этой целью в Президиум Крайисполкома была направлена докладная записка, в которой отмечалось, что в связи с бурным ростом социалистического строительства, область работы по охране наиболее ценных участков природы, имеющих научное и практическое значение в народном хозяйстве нашей страны, требует к себе особого внимания [26, л. 55]. «До настоящего времени, – отмечалось в записке, – в Куйбышевском крае дело охраны природы ограничивалось исключительно небольшой территорией заповедников, между тем как на огромном пространстве нашего края имеется значительное количество объектов, подлежащих охране» [26, л. 55].
Предложение было рассмотрено Куйбышевским Крайисполкомом, и в феврале 1936 г. появился проект Постановления «Об организации Краевого отделения Общества Охраны Природы», в котором говорилось: «Считая, что до сего времени в Куйбышевском крае дело охраны природы велось только в узких пределах заповедных территорий и, принимая во внимание необходимость создания в городе Куйбышеве специальной организации по охране природы с привлечением к этой важнейшей работе широких слоев советской общественности, Краевой Исполнительный Комитет, руководствуясь решением Президиума ВЦИК РСФСР от 1/XI – 1934 г. за № 132 постановляет организовать в г. Куйбышеве Краевое Отделение Общества Охраны Природы, действующее на основании Устава, утвержденного Президиумом ВЦИК РСФСР» [26, л. 56]. Однако это Постановление так и осталось невыполненным в связи с отсутствием средств на работу по охране природы, а также специалистов в данной области. Решение данного вопроса было отложено на неопределенный срок [26, л. 68]. Областное отделение ВООП появилось в Куйбышевской области только в 1957 г. А до этого времени, в течение двадцати одного года, ни краеведческая, ни природоохранная работа в области практически не велась.
После ареста В.П. Арапова и других местных краеведов в 1937 г., краеведческое движение в Куйбышевской области надолго прекратило свое существование. Данная тенденция была характерна для всей страны, так как 1937 год стал роковым для всего советского краеведения. В этом году Совнарком РСФСР принял постановление «О реорганизации краеведческой работы в центре и на местах», которое признало нецелесообразным «дальнейшее существование Центрального и местных бюро краеведения» и предписало Наркомпросу их ликвидировать, так как для краеведческой работы нет никакой необходимости создавать специальные организации. Вся деятельность по краеведению передавалась в школы, вузы, музеи и дома культуры, а руководство ею и контроль возлагались на Наркомпрос и органы народного образования на местах [27]. После принятия этого постановления, краеведческое движение в СССР фактически перестало существовать. В конце 1940-х гг. Институт краеведения и музейной работы, изучив краеведческие организации страны, сделал вывод о том, что «при данном состоянии краеведения не может быть и речи о краеведческом движении, тем более о массовости советского краеведческого движения» [28, с. 190–201].
Тем не менее, за время своей работы в 1920–1930-х гг. самарское краеведческое движение оставило уникальное научное наследие, значение которого сложно переоценить. Не имея достаточно сил и средств, работая безвозмездно, «на общественных началах», ученые и краеведы-любители сумели организовать всестороннее комплексное изучение Самарского края, в том числе его природы, и стать активными сторонниками и участниками российского природоохранного движения. В процессе исследования был сделан вывод о том, что общественное движение за охрану природы в 1920–1930-х гг. в Среднем Поволжье фактически существовало как отрасль краеведческого движения, имевшего разветвленную сеть первичных ячеек, сельских, городских и окружных обществ на местах. А достижения и традиции самарских ученых, которые появились в годы расцвета советского краеведения, несомненно, имеют большую ценность и в наши дни, являясь образцом для современных научных работников и краеведов-любителей.
Об авторах
Екатерина Дмитриевна Макеева
Самарский государственный социально-педагогический университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: katrin0509@mail.ru
кандидат исторических наук, доцент кафедры физики, математики и методики обучения
Россия, СамараСписок литературы
- Храмков Л.В. Введение в самарское краеведение. Самара: Изд-во ООО «Научно-технический центр», 2003. 350 с.
- Центральный государственный архив Самарской области (далее - ЦГАСО). Ф. Р-558. Оп. 1. Д. 15.
- ЦГАСО. Ф. Р-558. Оп. 1. Д. 16.
- ЦГАСО. Ф. Р-558. Оп. 1. Д. 49.
- ЦГАСО. Ф. Р-558. Оп. 1. Д. 74.
- ЦГАСО. Ф. Р-558. Оп. 1. Д. 201.
- ЦГАСО. Ф. Р-558. Оп. 1. Д. 75.
- Гольмстен В.В. Общество археологии, истории, этнографии и естествознания при Самарском государственном университете (История и деятельность) // Бюллетень Общества археологии, истории, этнографии и естествознания. 1925. № 1. С. 3-9.
- ЦГАСО. Ф. Р-558. Оп. 1. Д. 82.
- ЦГАСО. Ф. Р-558. Оп. 1. Д. 219.
- ЦГАСО. Ф. Р-558. Оп. 1. Д. 183.
- ЦГАСО. Ф. Р-828. Оп. 3. Д. 158.
- ЦГАСО. Ф. Р-779. Оп. 2. Д. 928.
- ЦГАСО. Ф. Р-558. Оп 1. Д. 176.
- ЦГАСО. Ф. Р-2558. Оп. 2. Д. 330.
- ЦГАСО. Ф. Р-20. Оп. 1. Д. 17.
- ЦГАСО. Ф. Р-558. Оп. 1. Д. 161.
- ЦГАСО. Ф. Р-4377. Оп. 1. Д. 1.
- ЦГАСО. Ф. Р-4377. Оп. 1. Д. 3.
- ЦГАСО. Ф. Р-828. Оп. 3. Д. 174.
- ЦГАСО. Ф. Р-558. Оп. 1. Д. 208.
- ЦГАСО. Ф. Р-4377. Оп. 1. Д. 6.
- ЦГАСО. Ф. Р-558. Оп. 1. Д. 206.
- Гусева Л.В., Крайнова Т.В. «Мы не можем примириться…» (судьба последнего председателя Самарского общества археологии, истории, этнографии и естествознания В.П. Арапова) // Краеведческие записки. Вып. VIII, посвященный 110-летию музея. Самара: Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина, 1996. С. 89-98.
- Конякина Т.Ю. Средневолжское краевое бюро краеведения (1930-1935 гг.) // Самарский край в истории России: мат-лы юбилейной науч. конф. 6-7 февраля 2001 г. Самара, 2001. С. 37-40.
- Научный архив Самарского областного историко-краеведческого музея. Ф. 4. Оп. 3. Д. 11.
- О реорганизации краеведческой работы в центре и на местах. Постановление СНК РСФСР от 10 июня 1937 г. // СУ РСФСР. 1937. № 7, ст. 51.
- Разгон А.М. Пути советского краеведения // История СССР. 1967. № 4. С. 190-201.
Дополнительные файлы