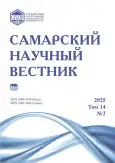Изменение в религиозном сознании как фактор влияния на отношение к революционному терроризму в начале XX века
- Авторы: Семеева С.А.1
-
Учреждения:
- Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского
- Выпуск: Том 14, № 2 (2025)
- Страницы: 125-130
- Раздел: Исторические науки
- URL: https://snv63.ru/2309-4370/article/view/689222
- DOI: https://doi.org/10.55355/snv2025142207
- ID: 689222
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В данной статье рассматривается связь проблемы отношения российского общества к революционному терроризму в начале XX века и преобразования религиозного мышления под влиянием модернизационных процессов. При написании работы использовались методы контент-анализа, ретроспективный, идеографический, статистический. Исследованы проявления анти- и квазирелигиозности в действиях тех, в чьи судьбы вошёл революционный террор и получил одобрение. Причём подобные идеи, зародившись в знакомых с философией Ф. Ницше интеллигентских кругах, входили и в мысли народа, чему способствовали распространение грамотности, усиление связи города и деревни. Рассмотрена поэтика организаторов, исполнителей терактов и сочувствовавших им для обхода заповедей христианского вероучения. Лейтмотивом в ней выступало желание приспособить религиозные истины для разрешения мирских проблем. Примечателен тот факт, что деятели, оставшиеся верны каноническим ценностям, тем не менее, также способствовали включению населения в революционную террористическую борьбу. Парадокс обусловлен описанными «симптомами» кризиса Церкви и её восприятие обществом как бюрократической единицы. Полученные результаты могут служить основой для дальнейшего изучения историками характера и мотивов участия различных общественных сил в революционных событиях.
Ключевые слова
Полный текст
Когда колеблются авторитеты, падают государства
Епископ Гомельский Митрофан [1]
Всю деятельность человека предваряют установки сознания. К началу XX в. идеи нового общественного устройства вступили в противоречие с существовавшей государственной системой России. Церковь, несмотря на традиционные возможности сильного влияния на население, не смогла стать посредником и наладить диалог между обществом и государством. Более того, одним из ключевых элементов духовной сферы, подвергшихся пересмотру обществом, стала религия, в частности, заповедь «не убий». В итоге в период революции 1905–1907 гг. «в результате терактов в 1905 г. убито 233 человека, ранено 358; в 1906 г. убито 768, ранено 820; в 1907 г. убито 1232, ранено 1312 человек» [2]. Таким образом, общее количество пострадавших составило 4731 человек. Вместе с тем американский исследователь Анна Гейфман считает, что число жертв за этот период достигло более 9 тыс. человек [3, с. 31].
Цель статьи: проанализировать связь менявшихся религиозных идей в умах современников и отношения к терактам периода 1904–1911 гг.
Исследование было проведено на основе анализа источников: статьи идеолога партии социалистов-революционеров (ПСР) В.М. Чернова, обосновавшего неизбежность применения террористической тактики [4]; отчёта обер-прокурора Святейшего Синода за 1911–1912 гг. о снижении уровня религиозной культуры населения [5]; заметок либеральной газеты «Речь», журнала «Русское богатство»; не упоминаемых ранее в исследованиях архивных материалов (Государственного архива Воронежской области (ГАВО), г. Воронеж; Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), г. Москва; Центрального государственного архива Самарской области (ЦГАСО), г. Самара); воспоминаний секретаря Л.Н. Толстого В.Ф. Булгакова [6], значимых с точки зрения отражения понимания писателем религии и проблемы применения насилия; художественных произведений И.Д. Сургучёва [7], Б.В. Савинкова [8], Л.Н. Андреева, ценных наблюдениями авторов за отношением к религии в среде их нахождения. Литература представлена работами дореволюционных философов С.Л. Франка [9], носителя идеи неохристианства Д.С. Мережковского [10–12], публицистов К.И. Чуковского о проявлениях кризиса христианства [13], А.В. Тырковой-Вильямс об оправдании терактов священнослужителями [14]; современное исследование историка Л.А. Андреевой [15] посвящено явлению квазирелигиозности (замещению невидимого объекта поклонения, принятого обычной религиозной доктриной, личностью земной и живущей в одном пространственно-временном интервале с неофитами); монографии Б.Н. Миронова [16], Т.Г. Леонтьевой [17] отражают изменения в социальном статусе духовенства, особенности взаимодействия священников с прихожанами в начале XX века.
Трансформация религии в сторону атеизма была одним из способов обоснования, почему всё позволено. Газета «Речь» сообщала, что 25 января 1908 г. в Тенишевском училище Санкт-Петербурга состоялась лекция писателя А. Белого на тему «Ницше и предвестники современности», которая собрала многочисленную публику. Повышенный интерес обусловлен философской концепцией, которая побуждала способного на разрушение старых христианских ценностей Сверхчеловека к созданию собственной морали. Ещё К.И. Чуковский поднял проблему умирания непонимаемой истинной религиозной жизни и её замещения бытовой стороной, которая порождает «хлопоты, веселье, настроение». Школьные же уроки Закона Божия этого не учитывали и ненамеренно способствовали искажению религиозных истин в сознании привыкшего мыслить конкретно ребёнка (так, постулат о том, что «Бог один, но в трёх лицах» дети воспримут так, что Бог не кто иной, как «человек о трёх головах») [13]. Проблема обучения в семинариях методом зубрёжки без стремления и возможности пробудить интерес к познанию и глубокое понимание переносилась и в церковно-приходские школы [17, с. 63]. В этой связи показателен следующий эпизод, произошедший в период революции 1917 г.: «Один из солдат похвалялся грабежами и убийствами, в которых он участвовал в дни революции. Я не выдержал, встал из своего уголка и спросил рассказчика: «Разве Христос в Евангелии учил так делать?» – «А нешто мы его читали? Мы только крышку Евангелия целовали… А что в ём писано, того не знаем» [18, с. 42].
Облик священнослужителей, в свою очередь, также не располагал к себе. Историк Т.Г. Леонтьева сделала акцент на пьянстве, которое назвала настоящим бедствием духовенства. Вместе с тем желающие посвятить себя служению Богу руководствовались соображениями выгоды. Духовенство освобождалось от воинской повинности, а в условиях открытости священства для других сословий для крестьян и обедневших дворян церковь становилась каналом вертикальной мобильности [17, с. 61], причём интеллектуально развитые люди, получив бесплатное образование, не оставались в профессии, а стремились занять своё место в светской жизни. С другой стороны, в ряде случаев общению духовенства с паствой препятствовали искусственно. В частности, священник слободы Еленовки Богучарского уезда Воронежской губернии о. Павел Аггеев отмечал, что ученик Л.Н. Толстого В. Чертков, проживавший в пределах прихода, прилагал все усилия для выживания священника. С этой целью преследовал крестьян, которые жертвовали воскресный заработок на церковь [19, л. 15].
А. Белый видел в Ницше, так же, как когда-то увидели во Христе, предтечу Нового времени [20]. Также он заметил, что степень проникновения ницшеанства в духовную сферу гораздо выше, чем полагали считавшие Ницше сумасшедшим. Подобие такого Сверхчеловека изображено одним из руководителей Боевой организации Партии социалистов-революционеров (БО ПСР) Б.В. Савинковым в романе «Конь бледный» в лице главного героя Жоржа, пришедшего к выводу об отсутствии разницы между политическим и уголовным убийствами, ведь если он «сам себе Бог», то любые его желания – закон [8, с. 322]. Более того, распространением, измельчанием и вырождением революционный террор обязан сотням безудержных реальных преследователей личных интересов, которые без лишней рефлексии разрешали убийство для себя.
Размышляя над устоявшейся истиной, что «никто не вправе отнимать у ближнего жизнь», теоретик эсеров В.М. Чернов в статье «Террористический элемент в нашей программе» пришёл к выводу о существовании двух типов нравственности: неземной и земной. Неземная нравственность создана искусственно, она воздушная, сентиментальная, утончённая, «блюдёт абсолютную чистоту индивида». По его мнению, это нравственность удобно устроившихся эгоистов либо людей, подчинённых букве, независимо от ситуации, в которой оказалось человечество. Среди последних, очевидно, большую часть занимают верующие, живущие страданием, надеясь на воздаяние за терпение после смерти. Эсеры же предпочли нравственность земную – для счастья ближнего в этой жизни, к завоеванию которого надо идти [4, с. 79]. Оправданием для террористов стал тезис Е.С. Сазонова о том, что «небо молчит» [21, с. 8], когда его защита так необходима притеснённым.
Истоки в различении нравственности С.Л. Франк увидел в разности природы морали и религии и в том, что религиозные ценности всегда приносились интеллигенцией в жертву моральным, так как последние ощущались сильнее [9, с. 150]. Философ оспаривал и суждение о глубокой религиозности интеллигенции, которая будто «сама того не замечает». Он полагал, что это заблуждение произошло из-за подмены понятий. Если под религиозностью подразумевать идейный фанатизм, доходящий до истребления чуждого и самопожертвования, тогда утверждение о религиозности интеллигенции справедливо [9, с. 151]. Но если вспомнить об ином составляющем религии – признании власти и правды абсолютного идеального начала, оно окажется враждебным утилитарному мировоззрению интеллигенции: «Кто любит Бога, того считают прямым врагом народа» [9, с. 152].
Неприятие ко всему злому нивелировало завет Христа о прощении врагов. В условиях, когда народ (в отвлечённом смысле) занимает пьедестал прежнего Бога, объяснимо, как «из великой любви к грядущему человечеству рождается великая ненависть к людям» [9, с. 164] конкретным.
Как известно, молитва обладает успокаивающим воздействием. Те, кто в минуты сильного горя молится Богу, легче со слезами переносят душевные страдания и скоро о них забывают [22, с. 20]. В террористической среде проблема решается с помощью теракта как результата, требующего долгой концентрации собственной воли. Потому теракты выступают как смысл и основание для самоутверждения в обществе и истории.
Ослабление религии могло носить частичный характер в концепции создателя, но из-за непонимания идейных тонкостей либо ввиду влияния случайно обронённых фраз, не вязавшихся с прежней позицией, последователи были более радикальными. Например, Л.Н. Толстой не верил в обряды, божественную природу Христа [6, с. 159], разделял идеи свободы личности, безгосударственности, присущие и анархистам, но выступал против анархической тактики насилия, отдавая предпочтение этическому обновлению человека [23]. В то же время секретарь Толстого В.Ф. Булгаков из частного разговора с писателем передал его слова, противоречившие теории ненасилия, сказанные в эмоциональном порыве по поводу португальской революции: «Нужна революция, чтобы уничтожилась эта глупость, чтоб сидел какой-то король, без всякой надобности!» [6, с. 375] О многочисленных визитёрах писатель был невысокого мнения, догадываясь, что «идут только потому, что обо мне говорят, сделали меня знаменитостью. Им дела нет до того, что во мне… В человеческих же отношениях они руководствуются тем, что говорят все. У них совсем нет способности самостоятельного мышления … начиная от палачей и кончая революционерами» [6, с. 168]. «Третьего дня были у Льва Николаевича, а вчера пришли к нам в Телятинки двое молодых людей, только что окончивших реальное училище … Ничего из последних писаний Льва Николаевича не читали, но заявили, что главные вопросы жизни уже разрешены ими. Обоим по семнадцати лет» [6, с. 315].
Стереотип о том, что все крестьяне были религиозны, опровергается отчётом обер-прокурора Святейшего Синода за 1911–1912 гг., в котором заявлено, что «неверие из интеллигентских кругов проникает в народные массы» [5, с. 152]. Связующим звеном между ними выступали учителя и священники. Например, учительница села Белый Яр Самарской губернии М.Л. Капустянская и священник В.Н. Богородицкий организовали под видом кредитного товарищества крестьянское братство [24, л. 7, 12], служившее «ячейкой для подготовления кадров главарей революции» [24, л. 20]. У упомянутого священника при обыске была обнаружена брошюра «Песни революции» [24, л. 15]. В частности, крестьянин деревни Шачи Никольско-Мало-Ломовской волости Тамбовской губернии Захар Андреев «оскорбил словами Деву Марию, называя её распутной девицей». Тот же крестьянин демонстративно выбрал церковно-приходскую школу местом для исполнения революционной песни «От Амура до Алтая нет глупее царя Николая» [25, с. 88]. В соответствии с рапортом уездного исправника Богучарского уезда Воронежской губернии от 17 июля 1904 г., крестьяне Я. Фальман и А. Васильев «позволили себе порицать православную веру и произносить оскорбительные слова против Священной особы Государя Императора при свидетелях» [26, л. 80].
По словам соседей воронежского крестьянина Николая Череватенко, тот открыто работал по воскресеньям и в церковные праздники, «икон в доме не имеет и не почитает, а также не признаёт святых угодников». Более того, Н. Череватенко насмехался над верой односельчан в нетленность мощей святых. Провокационно спрашивал: «Я читал, что один зверь несколько лет лежал в земле и остался невредим, стало быть, и он, по-вашему, святой?» [27, л. 24] Доказывал с опорой на прочитанные научные статьи, что только состояние грунта даёт эффект прекращения разложения тела [27, л. 27]. По примеру этого крестьянина стал мыслить и его знакомый Антон Величко, который призывал других не молиться на доски (именуя так иконы) [27, л. 28]. Н. Череватенко также риторически вопрошал: «Как вы живете, подчиняясь каким-то законам, властям, полиции? Зачем вы присягаете какому-то Николаю Александровичу?» [27, л. 27].
Исходя из этого, очевидно, что за завесой кощунственных проявлений скрывались социальные, экономические и политические требования. Однако подобные случаи всё же не носили массового характера в связи с тем, что закон охранял христианскую веру. Раздел 2 «О преступлениях против веры и о нарушении ограждающих оную постановлений» Уложения наказаний уголовных и исправительных от 1845 года устанавливал наказание (до отмены в 1906 г.) за публичную хулу на Бога, Богородицу, крест, Святых Угодников в виде лишения всех прав состояния, ссылку на каторжные работы на заводах от 6 до 8 лет, на рудниках – от 12 до 15 лет, если оскорбление произнесено в церкви (ст. 182); в случае хулы не публично, но при свидетелях каторга заменялась поселение в Сибири (ст. 183) [28, с. 62]. На утаивших услышанное оскорбление свидетелей тоже возлагалась ответственность: заключение в тюрьму от 6 месяцев до 1 года (ст. 185) [28, с. 63–64]. Уклонявшимся от исповеди и причащения «по нерадению и небрежению» (ст. 219) назначалось церковное наказание по распоряжению епархиального начальства [28, с. 78], что превращало Таинства в формальность. Согласно отчетам армейского духовенства уже после революции, с освобождением Временным правительством солдат от обязательных церковных обрядов и таинств, процент записанных православными и соблюдавших таинство причастия сократился с почти 100 в 1916 г. до менее 10 в 1917 г. [29, с. 34].
Сюжет стихотворения 1906 года «Разрушитель» Д.М. Цензора осознанно раздвоен автором. С одной стороны, речь идёт о ниспровержении лирическим героем-революционером с помощью взрыва неприкосновенной особы императора, «земного бога», с другой, здесь очевиден и прорыв религиозной канвы. Именуемый Ваалом объект кощунственного посягательства в переводе с еврейского означает «хозяин», интерпретируемый и как царь, и как Бог [30].
В рассказе И.Д. Сургучёва «Соседка» даже служанка Дарьюшка, осуждавшая нелюбовь революционизированных студентов к иконам, в то же время сама неосознанно совершила кощунство и назвала «смазливым иконостасом» внешность одного из жильцов [7, с. 110]. Этот факт свидетельствует о том, что каждый невольно являлся продуктом культурной динамики и «заражается» общественным настроением. Потому и героизация террористов первой волны начала XX века, членов БО ПСР, приняла массовый характер.
По данным Т.Г. Леонтьевой, многие представители духовенства разделяли идеи революционеров [17, с. 88]. Журналистка А.В. Тыркова-Вильямс с отвращением вспоминала, как даже священник, депутат Государственной Думы, уверял, что «в Евангелии можно найти оправдание террору» [14]. Еще философ Н.А. Бердяев увидел предпосылки революционности семинаристов в «аскетическом мироотрицании, протесте против обскурантской атмосферы духовной школы» [16, с. 377].
Такие заявления, по мнению А.В. Тырковой-Вильямс, заставляли «глохнуть совесть», «тускнеть сознание» [14] и выглядели безумными на фоне «слепых, никому не нужных убийств» [14]. Евангелие от Луки содержит эпизод, из которого ясно, как на самом деле относился Иисус к насилию. Отсечение апостолом Петром уха раба первосвященника, который участвовал в аресте Иисуса в Гефсиманском саду, вызвало осуждение Христа и последующее исцеление им этого раба [31, с. 315]. Очевидна простота, заложенная первоначально в заповеди «не убий». Б.В. Савинков в своей повести «Конь бледный» показал нарочитую усложнённость интерпретации этой заповеди устами героя, верующего террориста Вани: «Нет больше той любви, как если за други своя положить душу свою» [8, с. 313]. Таким образом, Ваня соглашался на грехопадение, неизбежные муки совести после убийства, ради рая на земле.
По сведениям воронежского крестьянина А.Б. Прасолова, среди односельчан «нашлось много толкователей Священного Писания. Христа называли революционером, анархистом-коммунистом. При обысках Евангелия отбирались» [32, с. 9–10]. Таким образом, власть понимала, что истоки в ослаблении государственности лежали и в бессилии официальной церкви, проявлением которого было широкое распространение сектантства. Газета «Речь» сообщала о распространении секты иеговистов «на Урале, Кавказе, Малороссии и Ташкенте», причисленной к партии анархистов в связи с появлением среди сектантов озлобленных бомбистов. По мнению Е.В. Молоствовой, автора доклада «Секта иеговистов» в этнографическом отделении Русского географического общества, это обусловлено притеснениями на религиозной почве (отказ от приёма на работу, требование начальства посещать общие молитвы на заводе), а не самим учением [33].
В 1907 г. после нападения крестьянами на имение воронежского дворянина А.А. Русанова его тёщей и кухаркой, наряду с выбитыми стёклами, разбитыми комодами, разбросанным бельём, были обнаружены и «снятые образа» [34, л. 11 об.] (из материалов дела, правда, не ясно, были ли иконы унесены совсем или находились не в том месте, где их повесили хозяева). Возможно, для преступников иконы были восприняты как тайники / подвергнуты оценке на вопрос представления материальной ценности. Не исключено, что для неверующих крестьян любые религиозные предметы выступали символом библейских заповедей, которые они нарушили без сожаления, и поругание святынь было демонстративным актом. Какими бы ни были мотивы разбойников, их объединяет утрата страха Божьего наказания.
Л.Н. Андреев в «Рассказе о семи повешенных» в персонажах приговорённых к смертной казни террористов Муси и Вернера выводит новую плеяду уверовавших в Бога, которые говорить об этом могут только намёками, ибо совестно. В интерпретации Д.С. Мережковского, это связано с прежним поруганием имени Бога и невозможностью вмещения в это имя без осквернения открывшегося чувства любви к нему. Дорога к смерти есть дорога к Богу (приговорённые идут на казнь как на праздник, мать одного из героев во сне видит, что женит сына и вино льётся ей на лицо). Напротив, когда Василий Каширин пробует молиться, «мёртво прозвучали слова, было пусто в душе». «Между религиозным сознанием и религиозным действием легло бездонное противоречие» [11].
Историк Л.А. Андреева обратила внимание на возникновение феномена «квазирелигиозного культа мучеников», в которых общественность активно обращала террористов [15]. Подтверждением стала новость, сообщённая журналом «Русское богатство», об обнаружении в доме у политически неблагонадёжного воронежского крестьянина «портрета Марии Спиридоновой, висевшего в киоте с горевшей перед ним лампадкой» [35, с. 85].
Писатель Д.С. Мережковский считался носителем «нового религиозного сознания». В то же время полиция была осведомлена о его тесном знакомстве с Б.В. Савинковым и относила «к категории русских революционеров» [36, л. 203]. Согласно Д.С. Мережковскому, церковь стала частью бюрократии, служанкой «Царя-Зверя», преступив через принцип соборности [12, с. 73], а потому, революция имела и религиозный смысл как освобождение от «крышки гроба для мертвеца воскресшего» [10, с. 130]. В контексте его размышлений статья газеты «Речь» упоминала о споре, возникшем между консерватором, государственным деятелем, и либералом по поводу проведения церковных реформ и привлечения к этому населения. По убеждению консерватора, церковь сращена с государством, а привлекать к реформам общество в эпоху смуты умов было бы преступлением [37]. Как писал поэт А.А. Блок, передовые люди XX века торжествовали, что «наконец-то освобождают от всякой религии свои творческие энергии», а категоричные проповеди смирения «сытых от благости» духовных лиц, усиленные размещением эскадроном жандармов с саблями наголо, вызывали презрение или равнодушие [38]. Действительно, духовенство, активно поддерживавшее черносотенные организации в борьбе с террористами, считало своей единственной миссией спасение России возвращением царю неограниченных полномочий [39, с. 10]. Активные деятели политики, именуемые «революционерами справа» [39, с. 6], священники призывали уничтожать «проклятое племя евреев», повинное, с их точки зрения, в революционных потрясениях [39, с. 12]. Они сами забыли о смирении и терпимости, способствуя озлоблению обеих сторон борьбы и активному включению в неё немногочисленной легковерной паствы, для которой указания церковных деятелей были непреложны.
Крестьянин П.Е. Поддубский, по словам его бывшей сожительницы Н.П. Кайковой, находясь в нетрезвом виде, рассказал ей, что, проживая в Симбирске, состоял в революционной партии и на его долю выпал жребий убить симбирского губернатора К.С. Старынкевича в 1906 г. [40, л. 8]. Обратим внимание, что признание было сделано в особенный для православных день – на Пасху [40, л. 12], что может свидетельствовать как о раскаянии, так и о намерении основать своё деяние на всесилии Христа.
Также Д.С. Мережковский поднимал проблему толкования фразы из молитвы «Отче наш»: «Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли». Философ полагал, что любое событие, совершающееся на земле (а значит, и революция), должно быть воспринимаемо как происходящее по воле Бога, в то время как в православной традиции отделения земного (плотское, греховное) от небесного (духовного, чистого) воля Бога на земле связана исключительно с Апокалипсисом [12, с. 61]. Очевидно, свобода воли человека Д.С. Мережковским в расчёт не бралась.
Таким образом, безусловные религиозные запреты под влиянием светских революционных идей стали относительными либо отвергнутыми, что дало основание идее терроризма вписаться в религиозный контекст либо заявить о своей самоценности. Соответственно, и общественная оценка революционных терактов была многими воспринята сочувственно до их измельчания и сращения с бандитизмом, когда инстинкт самосохранения стал сильнее теоретических построений.
Об авторах
Светлана Александровна Семеева
Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского
Автор, ответственный за переписку.
Email: svetlana.semeeva@mail.ru
аспирант кафедры отечественной и всеобщей истории
Россия, ЛипецкСписок литературы
- 82-е заседание Гос. Думы // Речь. 1908, 11 июня. № 138. С. 3.
- Зайончковский А.М. В годы реакции // Красный архив. 1925. Т. 1 (8). С. 242–243.
- Гейфман А.А. Революционный террор в России 1894– 1917 / пер. с англ. Е. Дорман. М.: Крон-пресс, 1997. 448 с.
- Чернов В.М. Террористический элемент в нашей программе // Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. В 3 т. Т. 1. 1900–1907 гг. М.: РоссПЭн, 1996. С. 78–88.
- Всеподданнейший отчет обер-прокурора Святейшего Синода по ведомству православного исповедания за 1911–1912 гг. СПб.: Синодальная типография, 1913. 266 с.
- Булгаков В.Ф. Л.Н. Толстой в последний год его жизни: дневник секретаря Л.Н. Толстого. М.: Правда, 1989. 465 с.
- Сургучёв И.Д. Соседка // Вестник Европы. 1909. Кн. 1, № 1. С. 108–145.
- Ропшин В. (Савинков Б.В.) Конь бледный: повесть // Савинков Б.В. Избранное. Л.: Художественная литература, 1990. С. 307–374.
- Франк С.Л. Этика нигилизма // Вехи: сборник статей о русской интеллигенции. М.: Тип. В.М. Саблина, 1909. С. 146–181.
- Мережковский Д.С. Революция и религия // Д. Мережковский, З. Гиппиус, Д. Философов. Царь и революция. М.: Объединённое гуманитарное издательство, 1999. С. 129–194.
- Мережковский Д.С. Сошествие в ад // Речь. 1908, 19 июня. № 145. С. 2.
- Мережковский Д.С. Теперь или никогда // Больная Россия. Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1991. 272 с.
- Чуковский К. Бог и дитя // Речь. 1909, 1 февраля. № 31. С. 2.
- Вергежский А. Безумие // Речь. 1907, 23 мая. № 119. С. 1.
- Андреева Л.А. Процесс дехристианизации в России и возникновение квазирелигиозности в XX веке // Общественные науки и современность. 2003. № 1. С. 90–100.
- Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну: в 3 т. Т. 1. СПб.: Дмитрий Буланин, 2014. 896 с.
- Леонтьева Т.Г. Вера и прогресс: православное сельское духовенство России во второй половине XIX – начале XX вв. М.: Новый Хронограф, 2002. 272 с.
- Марцинковский В.Ф. Записки верующего. Из истории религиозного движения в Советской России (1917– 1923). Прага, 1929. 324 с.
- Переписка с уездными исправниками по религиозным вопросам и последствиях учения Л. Толстого, благонадежности некоторых чиновников // Государственный архив Воронежской области (ГАВО). Ф. И 6. Оп. 1. Д. 190.
- М-ской С.В. Лекция Андрея Белого // Речь. 1908, 29 января. № 24. С. 4.
- Новый процесс Боевой организации (записка Е. Сазонова) // Революционная Россия. 1904. № 57. С. 6–11.
- Левицкий И.И. Борьба с самоубийствами учащихся: докл. сенат. Гарину и Мин. нар. просв. Иркутск: Пар. тип. И.П. Казанцева, 1911. 144 с.
- Шубаков Н. У Л.Н. Толстого // Речь. 1909, 3 января. № 2. С. 2.
- О раздаче противоправительственных брошюрок учительницей с. Белый Яр Капустянской и существовании в селе Хрящевке крестьянского братства партии социалистов-революционеров // Центральный государственный архив Самарской области (ЦГАСО). Ф. 3. Оп. 233. Д. 2771.
- Андреев В.Д. 1905 г. Крестьянское движение в Тамбовской губ. / сост. В.Д. Андреев. Тамбов: Тип. «Пролетарский светоч», 1925. 132 с.
- Материалы о найденных прокламациях и воззваниях РСДРП и других партий, призывающих к свержению самодержавия, объединению рабочих в единую партию // ГАВО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 597.
- Материалы по проверке благонадёжности крестьянина слободы Россошь Николая Череватенко, обвиняемого в получении литературы революционного содержания и распространении учения Л.Н. Толстого // ГАВО. Ф. И-6. Оп. 1. Д. 488.
- Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. СПб.: Тип. 2 отд-ния собств. Е. И. В. канцелярии, 1845. 898 с.
- Поспеловский Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке. М.: Республика, 1995. 511 с.
- Цензор Д.М. Разрушитель // Журнал. 1906. № 1. С. 2.
- Евангелие от Луки, 22:49–51 // Господа нашего Иисуса Христа Святое Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна: на славянском и русском наречии. СПб.: Синодальная типография, 1875. 425 с.
- Прасолов А.Б. Как туровские крестьяне боролись с самодержавием. М.: Изд-во Всесоюзного общества политкаторжан и ссыльнопоселенцев, 1928. 63 с.
- Хроника // Речь. 1909, 1 февраля. № 31. С. 4.
- О разграблении имения села Турово Землянского уезда Александра Алексеевича Русанова // ГАВО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 1086.
- Петрищев А. Успокоение // Русское богатство. 1907. № 12. С. 72–91.
- О Савинкове и Рожанском // Государственный архив Российской Федерации. Ф. 111. Оп. 5. Д. 254.
- Мёртвая зыбь // Речь. 1908, 26 января. № 22. С. 2.
- Блок А. Мережковский // Речь. 1909, 31 января. № 30. С. 3.
- Иеромонах Илиодор. Когда же конец? М.: Вече, 1907. 16 с.
- По доставлению в департамент полиции сведений о происшествиях по губерниям / о крест. Петре Емельянове Поддубском / партия террористов // ЦГАСО. Ф. 3. Оп. 233. Д. 3225.
Дополнительные файлы