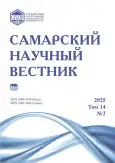Поздний энеолит Среднего Посурья
- Авторы: Шалапинин А.А.1
-
Учреждения:
- Самарский государственный социально-педагогический университет
- Выпуск: Том 14, № 2 (2025)
- Страницы: 89-99
- Раздел: Исторические науки
- URL: https://snv63.ru/2309-4370/article/view/689217
- DOI: https://doi.org/10.55355/snv2025142203
- ID: 689217
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В работе представлены материалы позднего энеолита Среднего Посурья. Анализу подверглись находки, происходящие с памятников со смешанным культурным слоем, полученные в результате раскопок 2006–2011 гг. Керамическая посуда разделена на три группы и отнесена к раннему, среднему и позднему этапам волосовской культурно-исторической общности. В исследовании на основании сопоставления с памятниками сопредельных территорий предпринята попытка вычленения каменных орудий позднего энеолита. На основании результатов радиоуглеродного датирования определены хронологические рамки позднего этапа меднокаменного века в регионе. Также в работе рассмотрен ранее высказанный в литературе вопрос о самостоятельном культурном статусе позднеэнеолитических комплексов лесостепного Посурья. При анализе выделенных специалистами специфических признаков позднего этапа меднокаменного века рассматриваемого региона был сделан вывод, что к ним можно отнести профилировку сосудов и наличие кварцитовых орудий. Данные признаки не позволяют выделить особую группу позднеэнеолитических памятников с самостоятельным культурным статусом. В работе было высказано предположение, что своеобразие комплексов на р. Суре связано со среднестоговским воздействием на волосовскую культуру, которое ранее было прослежено в Примокшанье.
Полный текст
Вплоть до начала XXI в. сведения о позднем энеолите Среднего Посурья были обрывочны и противоречивы. В основном материалы указанного времени происходили из разведок и нередко не вычленялись из общего массива неолитической керамики [1, с. 81–86]. Из стационарных работ на позднеэнеолитических памятниках следует указать на раскопки В.Ф. Каховским в 1974 г. поселения Стемасы I, в слое которого были обнаружены материалы, сопоставленные автором с комплексами волосовской культуры [2, с. 8]. Значительным продвижением в изучении позднего энеолита Среднего Посурья явилось организация и проведение совместных археологических экспедиций ЧГИН (Н.С. Березина, Е.П. Михайлов), СГПУ (А.А. Выборнов, А.И. Королев), УлГУ (А.В. Вискалин), ПГПУ (В.В. Ставицкий) и ИА РАН (В.В. Сидоров) проходивших в период с 2006 по 2011 гг. За это время стационарным раскопкам подверглось четыре памятника с позднеэнеолитическими материалами (Утюж I, Утюж V, Утуюжский Бугор, Черненькое Озеро III). Ряд памятников известен по разведкам (Утюж III (Стемасы), Молебное Озеро II, Китай-Озеро) (рис. 1; рис. 2). Результаты исследований частично опубликованы [3, с. 14–23; 4, с. 61–75; 5, с. 41–72; 6, с. 156–182]. В настоящее время одной из актуальных задач является характеристика и интерпретация позднеэнеолитических материалов.
Рисунок 1 – Памятники позднего энеолита Среднего Поволжья
Рисунок 2 – Памятники с материалами позднего энеолита Среднего Посурья
Памятники, на которых были обнаружены комплексы позднего энеолита, содержат находки мезолита, неолита и раннего этапа меднокаменного века.
Позднеэнеолитическая керамика с территории Среднего Посурья делится на несколько групп.
Первая группа представлена материалами поселений Утюж I (рис. 3: 1, 2), V (рис. 3: 3–12) и стоянки Черненькое Озеро III (рис. 3: 13, 14). В тесто данной посуды добавлялась раковина. Венчики с округлым срезом прямые (рис. 3: 3, 6) или слегка загнуты внутрь (рис. 3: 5). Орнаментальное поле имеет плотное заполнение и выполнена в основном гребенчатым штампом. Он имеет следующие разновидности: короткий овальный (рис. 3: 1, 5, 7, 12, 17), короткий (рис. 3: 2, 4, 8, 11, 13), средний (рис. 3: 1, 6, 12) и длинный (рис. 3: 6, 10). К данной группе примыкает фрагмент, орнаментированный оттисками рамчатого штампа (рис. 3: 9). Орнаментальные композиции следующие: горизонтальные ряды прямо и наклонно поставленных оттисков (рис. 3: 1, 4, 5, 7, 10–14), горизонтальный зигзаг (рис. 3: 3, 5, 9), «перевернутая елочка» (рис. 3: 6).
Рисунок 3 – Керамика первой группы позднеэнеолитических памятников Среднего Посурья. 1, 2 – фрагменты стенок с поселения Утюж I; 3–12 – фрагменты стенок и венчиков с поселения Утюж V; 13, 14 – фрагменты стенок с поселения Черненькое Озеро III
Керамика второй группы происходит с поселений Утюж I, V, Утюжский Бугор, Семасы (Утюж III), Китай-Озеро. Тесто данной посуды содержит примесь раковины и пера. Внешняя сторона сосудов имеет следы расчесов. Сосуды горшковидной с выраженной шейкой (рис. 4; рис. 5: 1, 2) и прямостенной форм (рис. 5: 7, 8). Срез венчиков округлый (рис. 4: 1, 2, 4, 7–10; рис. 5: 9, 10) и плоский (рис. 5: 2, 7, 9). Орнаментация разрежена и состоит из оттисков гребенчатого (рис. 4: 1–3, 9; рис. 5: 8, 12) и гладкого штампов (рис. 4: 7; рис. 5: 10), насечек (рис. 5: 5, 6), овальных или прямоугольных ямок (рис. 4: 10; рис. 5: 1, 3, 4). Орнаментальные мотивы: горизонтальные или наклонные ряды оттисков (рис. 4: 2, 4, 6; рис. 5: 3, 5, 6, 10, 11), зигзаг (рис. 5: 10), сетка (рис. 4: 1), елочка (рис. 4: 3). Часть фрагментов без орнамента.
Рисунок 4 – Керамика второй группы позднеэнеолитических памятников Среднего Посурья. 1, 2 – сосуды с поселения Утюж III (Стемасы); 3 – сосуд с поселения Китай-Озеро; 4–10 – сосуды и фрагменты венчиков с поселения Утюж V
Рисунок 5 – Керамика второй группы позднеэнеолитических памятников Среднего Посурья. 1–6 – фрагменты стенок с поселения Утюж V; 7–11 – фрагменты венчиков с поселения Утюжский Бугор; 13, 14 – фрагменты венчиков из подъемного материала с территории Утюжского археологического микрорайона; 15 – фрагмент венчика с поселения Утюж I
В третью группу выделены сосуды со стоянок Черненькое Озеро III и Молебное Озеро II. В тесто данной керамики добавлялась примесь раковины и раковины и пера. Венчики слегка отогнуты наружу (рис. 6: 3), с утолщением на внешнюю сторону (рис. 6: 1, 2, 4, 6) и Г-образные (рис. 6: 7, 9). Днище плоское (рис. 6: 8). Орнамент разрежен (рис. 6: 1, 5) или отсутствует (рис. 6: 2, 4, 6, 7, 9). Орнамент выполнен отпечатками веревочки (рис. 6: 1), гладкого (рис. 6: 3) и гребенчатого штампов (рис. 6: 5), овальными ямками (рис. 6: 3). Орнаментальные мотивы представлены горизонтальными рядами и зигзагами.
Рисунок 6 – Керамика третьей группы позднеэнеолитических памятников Среднего Посурья. 1–8 – фрагменты венчиков, стенок и днищ с поселения Черненькое Озеро III; 9 – венчик с поселения Молебное Озеро II
На поселении Утюж I керамика первой группы локализовалась в основном в крупной хозяйственной яме (яма № 5 из раскопа 2006 г.), в то время как фрагменты посуды второй группы собраны по всей территории раскопа. На стоянке Черненькое Озеро III на береговой части раскопа керамика первой группы залегала ниже посуды третьей группы (рис. 7; табл. 1).
Рисунок 7 – План раскопа поселения Черненькое Озеро III
Таблица 1 – Распределение энеолитической керамики на поселении Черненькое Озеро III
Пласт | Шурф | Квадраты | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
1 | 3 |
| 4 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 10 |
|
2 | 20 | 23 | 1 |
| 2 | 1 |
|
|
|
|
3 | 3 | 40 | 3 | 3 | 11 | 6 | 3 | 1 |
| 2 |
4 |
| 10 |
|
| 2 | 4 | 4 | 1 | 3 |
|
5 |
| 1 |
| 2 | 1 | 2 (1 фр. 1 группы) | 7 (6 фр. 1 группы) |
|
| 6 |
6 |
|
|
|
| 1 | 1 | 6 (5 фр. 1 группы) |
| 1 | 1 |
7 |
|
|
|
|
|
| 1 |
| 6 | 15 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | 5 |
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 29 |
Всего: | 26 | 74 | 8 | 6 | 17 | 16 | 22 | 4 | 24 | 58 |
Керамика первой группы сопоставима (примесь раковины в тесте, прямостенность, плотная орнаментация, короткие и средние гребенчатые штампы) с материалами раннего этапа волосовской культуры [7, с. 36–79]. Н.С. Березиной часть фрагментов посуды данной группы отнесена к красномостовскому типу финального неолита [8, с. 198]. Однако, керамика красномостовского типа имеет плотное тесто с примесью шамота и орнаментацию, сочетающую отпечатки гребенчатого штампа и округлые ямки [7, с. 11–26], что не отмечено в описанных материалах Среднего Посурья. Посуда второй группы имеет аналогии (профилировка, разреженность орнаментации, расчесы на внешней стороне сосудов, элементы орнамента) в энеолитических материалах Верхнего Посурья [9] и среднего этапа волосовской культуры Примокшанья [10] и Марийского Поволжья [7]. Материалы третьей керамической группы имеет сходство с посудой позднего этапа волосовской культуры лесной зоны Среднего Поволжья (Г-образные венчики, плоское днище, сосуды без орнаментации) [7, с. 117–206].
Наличие в Среднем Посурье только памятников со смешанным культурным слоем затрудняет вычленение из коллекций каменных орудий, относящихся позднему энеолиту. Однако на однослойном позднеэнеолитическом поселении Русское Труево II в Верхнем Посурье преобладающим видом сырья для орудий является кварцит. Также среди каменных орудий данного памятника встречаются орудия, изготовленные из белого кремня с серыми и черными вкраплениями. В коллекциях памятников Среднего Посурья, не содержащих находки позднего энеолита, практически отсутствуют орудия, изготовленные из данных видов сырья. Таким образом, с позднеэнеолитическим временем можно отнести в предварительном плане орудия, изготовленные из кварцита и белого кремня с серыми и черными вкраплениями. Кварцитовые орудия поселении Утюж V представлены ассиметричным наконечником дротика или ножом иволистной формы (рис. 8: 1), наконечником дротика с обломанным насадом (рис. 8: 2), наконечником дротика (рис. 8: 13), тремя треугольно-черешковыми наконечникам стрел (рис. 8: 4, 8, 10), фигуркой (рис. 8: 14). Из белого кремня с черными и серыми вкраплениями изготовлены наконечники стрел. Пять из них треугольно-черешковой формы (рис. 8: 3, 5, 6, 7, 9). Один с выраженным черешком и одним шипом (рис. 8: 11). Также из кремня указанного вида изготовлен нож на пластине (рис. 8: 21), концевой скребок подпрямоугольной формы (рис. 8: 16), скребки трапециевидной (рис. 8: 19) и округлых (рис. 8: 15, 20) форм. К энеолитическому времени можно отнести сверло на массивном отщепе (рис. 8: 17), скребок-штамп (рис. 8: 18), тесло (рис. 8: 12).
Рисунок 8 – Каменный инвентарь (1–21) поселения Утюж V
Для памятников Среднего Посурья имеется пять радиоуглеродных дат, полученные по материалам поселений Утюж III (Стемасы) и Утюж V. C поселения Утюж III (Стемасы) датированию подвергcя сосуд горшковидной формы (рис. 4: 1). Радиоуглеродные даты данного памятника имеют значения 4730 ± 90 Ki-15197 и 4620 ± 80 Ki-15626. С поселения Утюж V даты получены по крупной стенке – 3310 ± 80 Ki-16403, 3930 ± 90 Ki-16423 и почве из-под нее – 3840 ± 100 Ki-16402 (рис. 4: 5). Даты с поселения Утюж III совпадают с определениями по 14C с поселений Русское Труево II в Верхнем Посурье [11, с. 19] и ранней датой поселения Имерка VIII в Примокшанье [12, с. 110]. Определения по 14C с поселения Утюж V совпадают с наиболее поздними датами, полученными для памятников волосовской культуры Примокшанья [12, с. 110] и Волго-Окского междуречья [13, с. 236]. Указанные датировки демонстрируют синхронность позднего энеолита Среднего Посурья с памятниками волосовской культурно-исторической общности.
Дискуссионным вопросом в изучении позднего энеолита Среднего Посурья является вопрос об его культурном статусе.
Долгое время о позднем энеолите р. Суры можно было судить по материалам, происходящих только с памятников из ее верхнего течения. Традиционно их относили к волосовской культуре [14–16]. В.В. Ставицким был поставлен вопрос о самостоятельном культурном статусе позднеэнеолитических комплексов лесостепного Посурья. Опираясь на материалы поселений Грабово I, Подлесное V, Ховрино и других памятников. он выделил ряд специфических черт, характерных для рассматриваемого региона. К ним были отнесены плотная структура теста керамики, отсутствие рамчатых штампов, высокая доля ямчатых вдавлений, мотивы в виде косо-вертикальной лесенки, вертикальных спаренных и строенных зигзагов, треугольников заполненных рядами вдавлений, уступчики и желобки на сосудах, наконечники стрел с выемчатым основанием, наличие металла, кварцитовая индустрия, небольшие подквадратные жилища. Происхождение комплексов позднего энеолита Посурья, по мнению В.В. Ставицкого, связано с алтатинским типом памятников, к которому в регионе было отнесено поселение Русское Труево II [17, с. 194–195; 18, с. 137].
При детальном рассмотрении указанных признаков и сравнении с материалами энеолита лесной полосы следует указать следующее. Плотную структуру теста волосовская керамика приобретает с позднего этапа развития культуры. Орнаментация рамчатым штампом хотя и является ярким признаком волосовской керамики на ряде памятников отсутствует. Ее нет на Майданской стоянке, Уржумкинском, Ахмыловском II, Руткинском поселениях в Марийском Поволжье, а также на Волгапино в Примокшанье. Высокая доля орнаментации из ямочных вдавлений отмечена в коллекциях волосовской посуды Примокшанья. По подсчетам А.И. Королева в указанном регионе она колеблется от 30% (Волгапино) до 62,5% (Новый Усад IV) [10, с. 45–56]. В Марийском Поволжье доля ямчатой орнаментации составляет 18% на Мазарском I и 15,45% Баркужерском III поселениях. Наконечники треугольной формы стрел с выемчатым основанием обнаружены на поселениях Имерка VIII, Волгапино [10, с. 75, 77], Мазарское I и Руткинское [19, с. 28]. Изолированные подквадратные постройки изучены на Руткинском поселении в Марийском Поволжье, на имеркских памятниках Имерка V и Новый Усад IV в Примокшанье. Размеры позднеэнеолитических жилищ Посурья во многом совпадают с размерами полуземлянок волосовского населения Среднего Поволжья. Геометризм орнаментации, сосуды с уступчиками, металлические изделия являются в основном характерной чертой позднеэнеолитического комплекса поселения Ховрино на р. Барыш, а не всех памятников позднего энеолита Посурья.
Специфика позднеэнеолитического комплекса поселения Ховрино имеет несколько вариантов объяснения. В.В. Ставицкиим был прослежен ряд аналогий металлическим изделиям данного памятника в материалах трипольской культуры Прикарпатья. В частности, теслам-долотам типа Салаця, пластинам с развернутыми концами Карбунского клада, круглым бляхам с круговым пуансонным орнаментом, рыболовным крючкам, ножам [17, с. 194]. При определенном сходстве между предметами Триполья и Ховрино необходимо отметить следующее. Долота, крючки, гарпуны, ножи, стержни известны не только в южных энеолитических культурах, но и на памятниках меднокаменного века лесной зоны Волго-Камья [20–23; 24, с. 34]. Тесла-долота типа Саляца и орудие Ховринского поселения не идентичны. Так первые имеют по центру наружной грани продольный выступ, придающий сечению пятигранные очертания, что не отмечено на ховринском изделии [25, с. 138]. В то же время в отличии от ховринского орудия на трипольских теслах-долотах нет желобчатого оформления лезвия. Металлические бляхи с пуансонным орнаментом, стержни, ножи и крючки широко распространены в степной зоне Восточной Европы на памятниках энеолита и бронзового века. Бляхи округлой формы встречаются на памятниках ямно-катакомбного времени от Южного Побужья до Приуралья [26–29]. В Предкавказье в комплексах новотиторовской культуры обнаружены ножи с изогнутым лезвием, сопоставимые с ховринским изделием [27, с. 153]. Не совсем ясно, каким образом предметы из металла смогли попасть в Сурско-Свияжское междуречье в трипольское время, поскольку металлические изделия у степных и лесостепных энеолитических культур редки и представлены украшениями, пластинами и шильями [25, с. 151; 30, с. 77–80; 31, с. 57–58]. Из крупных орудий следует указать на плоское тесло с хутора Розы Люксембург и молот-скипетр из Петро-Свистуново. Однако они имеют значительные различия с долотом из Ховрино.
А.В. Вискалиным специфика ховринского комплекса связывалась с влиянием степных культур бронзового века [32, с. 370–377]. Наибольшее сходство посуды поселения Ховрино наблюдается с катакомбной и полтавкинской керамикой. К общим чертам следует отнести горшковидную форму сосудов с плоскими днищами, валики и уступчики по бокам, орнаментацию из оттисков гребенчатого и гладкого штампов, овальных и округлых ямок, отпечатков полой кости, шагающей гребенки, треугольников, решетки из прочерченных линий и др. [33, с. 62–64; 34, с. 55–56; 35, с. 166–167]. Не противоречат и аналогии изделиям из металла Ховринского поселения, отмеченные в Предкавказье, поскольку воздействие южных культур на полтавкинские памятники выражается прежде всего в металлопроизводстве [33, с. 62–64]. Средний бронзовый век лесостепного Заволжья датируется XXIX–XXII вв. до н.э. [36, с. 52]. Время существования новотиторовской культуры определяется серединой – второй половиной III тыс. до н.э. [27, с. 198]. Поздние ямные и ранние катакомбные захоронения Нижнего Подонья датируются концом третьей четверти – последней четвертью III тыс. до н.э. [28, с. 176]. В лесной зоне в это время существует памятники позднего и финального этапов волосовской культурно-исторической общности [7, с. 211].
Таким образом, специфика позднеэнеолитических материалов лесостепного Посурья проявляется в наличии орудий из кварцита и профилировке сосудов. Относительно первого признака следует указать, что ориентация населения на кварцитовое сырье может объясняться не только процессами этнокультурного взаимодействия в меднокаменном веке. Оно может быть связано с отсутствием или истощением доступных источников качественного кремневого сырья в регионе. Относительно второго признака, необходимо отметить, что профилированные сосуды распространены не только в степном Поволжье, но и в среднестоговских, среднестоговско-волосовских и волосовских керамических комплексах Примокшанья, на памятниках Шаморга XI, Имерка VIII, Скачки [10]. Профилированные сосуды в позднем энеолите Среднего Посурья характерны для второй и третьей групп, что может свидетельствовать о сходных процессах культурного взаимодействия на Мокше и Суре.
Об авторах
Антон Александрович Шалапинин
Самарский государственный социально-педагогический университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: anton-shalapinin@ro.ru
кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела научных исследований и грантов
Россия, СамараСписок литературы
- Березина Н.С. Вклад краеведа Юрия Борисовича Новикова в изучение археологических памятников Присурья // Культурная специфика Волго-Сурского региона в эпоху первобытности: мат-лы межрегион. науч.-практ. полевого семинара (Чувашская Республика, Алатырский район, 31 июля – 4 августа 2008 г.). Чебоксары: ЧГИГН, 2010. С. 81–86.
- Каховский В.Ф. Новые археологические памятники Чувашского Присурья // Труды ЧНИИЛЯИЭ. Вып. 80. Исследования по археологии Чувашии. Чебоксары, 1978. С. 3–18.
- Березина Н.С., Вискалин А.В., Выборнов А.А., Королев А.И., Ставицкий В.В. Охранные раскопки многослойного поселения Утюж I на Суре // Самарский край в истории России: мат-лы межрегион. науч. конф., посв. 120-летию со дня основания Самарского областного историко-краеведческого музея им. П.В. Алабина. Вып. 3. Самара, 2007. С. 14–23.
- Березина Н.С., Выборнов А.А., Кондратьев С.А., Шалапинин А.А. Черненькое озеро III – новый памятник каменного века в Среднем Посурье // Материалы по истории и археологии России. Т. 1. Рязань: Александрия, 2010. С. 61–75.
- Вискалин А.В., Березина Н.С., Березин А.Ю., Выборнов А.А., Королев А.И., Ставицкий В.В., Коноваленко А.В. Исследование многослойного поселения Утюж I на Суре // Научно-педагогическое наследие В.Ф. Каховского и проблемы истории и археологии. Кн. 2. Чебоксары, 2009. С. 41–72.
- Березина Н.С., Березин А.Ю., Эльмобарак Джафар О.В., Выборнов А.А., Сидоров В.В., Шалапинин А.А. Многослойный памятник неолита–энеолита Утюж V в Алатырском Присурье (работы 2009 года) // Чувашская археология: сб. ст. Вып. 1 / науч. ред. Н.С. Березина, Е.П. Михайлов. Чебоксары: ЧГИГН, 2012. С. 156–182.
- Никитин В.В. На грани эпохи камня и металла. Средневолжский вариант волосовской культурно-исторической общности: монография (Материалы и исследования по археологии Поволжья и Урала. Вып. 10). Йошкар-Ола, 2017. 765 с.
- Березина Н.С. Каменный век Чувашского Поволжья // Археология Евразийских степей. 2021. № 1. С. 8– 261. doi: 10.24852/2587-6112.2021.1.8.261.
- Ставицкий В.В. Энеолитическое поселение Русское Труево 2 на Верхней Суре и происхождение древностей алтатинского типа // Археологические записки. Вып. 2. Ростов-на-Дону: Донское археологическое общество, 2002. С. 91–103.
- Королев А.И., Ставицкий В.В. Примокшанье в эпоху раннего металла. Пенза: Изд-во ПНПУ им. В.Г. Белинского, 2006. 202 с.
- Шалапинин А.А. Культурно-хронологическое соотношение позднеэнеолитических комплексов Среднего Поволжья: автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.06. Ижевск, 2011. 25 с.
- Королев А.И. Материалы по хронологии энеолита Примокшанья // Вопросы археологии Поволжья: сб. ст. Вып. 1. Самара: Изд-во СамГПУ, 1999. С. 106–115.
- Цетлин Ю.Б. Неолит центра Русской равнины: орнаментация керамики и методика периодизации культур. Тула: Гриф и К., 2008. 352 с.
- Халиков А.Х. Древняя история Среднего Поволжья. М.: Наука, 1969. 395 с.
- Третьяков В.П. Волосовские древности в междуречье Суры и Мокши // Советская археология. 1990. № 4. С. 16–29.
- Королев А.И. Энеолит Примокшанья и Верхнего Посурья: автореф. дис. … канд. ист. наук: 07.00.06. Ижевск, 1999. 23 с.
- Ставицкий В.В. Позднеэнеолитические древности лесостепного Посурья // Влияние природной среды на развитие древних сообществ (IV Халиковские чтения): мат-лы науч. конф., посв. 50-летию Марийской археологической экспедиции (Юрино, 5–10 августа 2006 г.). Йошкар-Ола: МарНИИ, 2007. С. 192–195.
- Ставицкий В.В. Позднеэнеолитические памятники Сурско-Свияжского междуречья // Археология Волго-Камья. В 7 т. Т. 2. Энеолит и бронзовый век / под общ. ред. А.Г. Ситдикова; отв. ред. А.А. Чижевский. Казань: Изд-во АН РТ, 2021. С. 127–137.
- Никитин В.В. Основные типы каменных орудий волосовского населения Средней Волги // Археология и этнография Марийского края. Вып. 13. Древности Среднего Поволжья / отв. ред. Г.А. Архипов. Йошкар-Ола: МарНИИ, 1987. С. 21–31.
- Бадер О.Н. Поселения турбинского типа в Среднем Прикамье (Материалы и исследования по археологии СССР. № 99). М.: Изд-во Академии наук СССР, 1961. 199.
- Бадер О.Н. Поселение у Бойцова и вопросы периодизации среднекамской бронзы // Отчеты Камской (Воткинской) археологической экспедиции. Вып. 2 / отв. ред. О.Н. Бадер. М., 1961. С. 110–271.
- Кузьминых С.В. К вопросу о волосовской и гаринско-борской металлургии // Советская археология. 1977. № 2. С. 20–34.
- Кузьминых С.В. Первые анализы меди с энеолитических поселений бассейна р. Вятки // Памятники эпохи энеолита и бронзы в бассейне р. Вятки: сб. ст. / отв. ред. С.В. Ошибкина. Ижевск, 1980. С. 147–150.
- Наговицин А.Л. Новоильинская, гаринско-борская и юртиковская культуры // Археология СССР. Эпоха бронзы лесной полосы СССР. М.: Наука, 1987. С. 28–34.
- Рындина Н.В. Древнейшее металлообрабатывающее производство Юго-Восточной Европы (истоки и развитие в неолите–энеолите). М.: Эдиториал УРСС, 1998. 288 с.
- Богданов С.В. Эпоха меди степного Приуралья. Екатеринбург: УрО РАН, 2004. 285 с.
- Гей А.Н. Новотиторовская культура. М.: Старый сад, 2000. 224 с.
- Кияшко А.В. Происхождение катакомбной культуры Нижнего Подонья. Волгоград: Изд-во Волгоградского гос. ун-та, 1999. 182 с.
- Черняков И.Т., Никитин В.И. Металлические украшения с пуансонным орнаментом ямной и катакомбной культур // Советская археология. 1988. № 4. С. 26–36.
- Телегин Д.Я. Среднестоговская культура эпохи меди. Киев: Наукова думка, 1973. 165 с.
- Кияшко А.В. Между камнем и бронзой (Нижнее Подонье в V–III тысячелетиях до н.э.) (Донские древности. Вып. 3). Азов: Азовский краеведческий музей, 1994. 132 с.
- Вискалин А.В. Поселение ранних металлургов и коневодов на Барыше // Тверской археологический сборник. Вып. 5. Тверь: Тверской областной краеведческий музей, 2002. С. 370–377.
- Васильев И.Б., Кузнецов П.Ф., Турецкий М.А. Ямная и полтавкинская культуры // История Самарского Поволжья с древнейших времен до наших дней. Бронзовый век. Самара: Изд-во СНЦ РАН, 2000. С. 6–64.
- Мочалов О.Д. Керамика погребальных памятников эпохи бронзы–лесостепи Волго-Уральского междуречья. Самара: СГПУ, 2008. 252 с.
- Синюк А.Т. Бронзовый век бассейна Дона. Воронеж: Изд-во Воронежского гос. пед. ун-та, 1996. 350 с.
- Кузнецов П.Ф. Проблемы изучения раннего и среднего периодов бронзового века Самарского Поволжья // 40 лет Средневолжской археологической экспедиции. Краеведческие записки. Вып. XV / отв. ред. Л.В. Кузнецова. Самара: Офорт, 2010. С. 40–55.
Дополнительные файлы