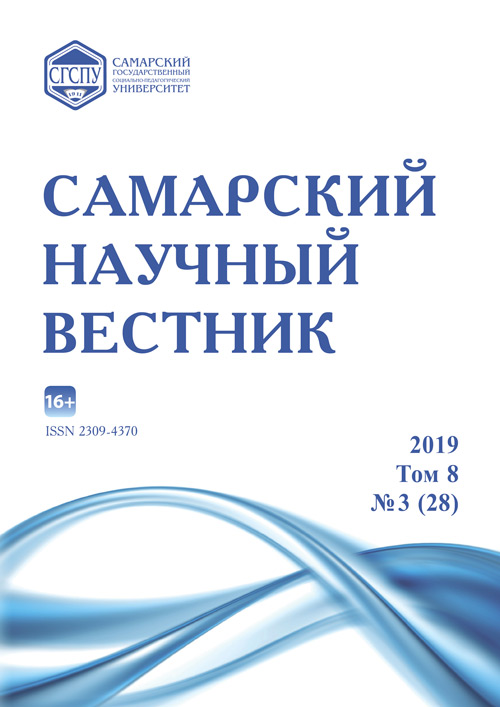К вопросу о переходе от палеолита к мезолиту на Верхнем и Среднем Дону
- Авторы: Бессуднов А.Н.1, Бессуднов А.А.2
-
Учреждения:
- Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского
- Институт истории материальной культуры РАН
- Выпуск: Том 8, № 3 (2019)
- Страницы: 99-112
- Раздел: Исторические науки и археология
- URL: https://snv63.ru/2309-4370/article/view/34361
- DOI: https://doi.org/10.17816/snv201983201
- ID: 34361
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Самые молодые верхнепалеолитические памятники в долине Верхнего и Среднего Дона имеют радиоуглеродные даты около 13–12 тыс. лет назад (Борщево 2, Дивногорье 1, Дивногорье 9). Коллекции каменного инвентаря этих стоянок характеризуются наличием изделий с притупленным краем, миниатюрных концевых скребков, ретушных резцов, что является отличительными чертами финальной стадии восточного эпиграветта. Стоянки, которые можно с уверенностью отнести к финальному палеолиту, к настоящему моменту в рассматриваемом регионе не обнаружены. Несколько стоянок раннего мезолита, исследованных в течение двух последних десятилетий, имеют радиоуглеродные даты около 10–9 тыс. лет назад. Геометрические микролиты, резцы различных типов, округлые концевые скребки, разнообразные острия и долотовидные изделия являются типичными для орудийного набора. По меньшей мере, 2 тыс. лет разделяют самые поздние верхнепалеолитические и наиболее ранние мезолитические стоянки, а определенное сходство между ними наблюдается лишь среди широко распространенных типов изделий и приемов обработки. В статье обсуждаются различные сценарии формирования мезолита на Дону и его вероятное происхождение. Наиболее предпочтительной остается точка зрения об отсутствии преемственности между палеолитом и мезолитом, а появление мезолитического населения может объясняться миграциями с соседних территорий.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
На данный момент в бассейне Верхнего и Среднего Дона число стоянок, относящихся к рубежу плейстоцена/голоцена, невелико. Лишь некоторые из них четко стратифицированы и обеспечены комплексом естественнонаучных данных. При этом большая их часть принадлежит поздней поре верхнего палеолита с радиоуглеродным возрастом 16–12 тыс. л.н. Примерно такая же ситуация и с источниками по мезолиту.
Несмотря на скудость сведений о характере и времени заселения рассматриваемой территории в это время, выявленные здесь материалы привлекались к решению проблем развития мезолитической культуры уже с первой четверти XX века, когда С.Н. Замятнин выделил на Дону два типа микролитических индустрий: донецко-изюмскую с геометрическими формами в южной части региона и менее типичную микролитоидную, «приближающуюся по облику к ранним рязанским и самарским стоянкам» (цит. по: [1, с. 70–72]). Изначально только отдельные памятники региона рассматривались при построении масштабных культурно-хронологических схем [2–5]. По мере увеличения источниковедческой базы стоянки сами становились объектами исследований: на их материале предпринимались попытки решения вопросов локального культурного развития [6; 1; 7–10 и др.]. Некоторые авторы объясняли возникновение мезолита на Дону миграцией племен с соседних территорий [1; 11; 7], большинство все же считало, что он сложился на основе традиций местных позднепалеолитических племен [2–6]. Значительное увеличение количества обнаруженных и исследованных памятников позднего палеолита и мезолита, произошедшее в последние два десятилетия [7; 12–16; 8; 17–19 и др.], а также расширение возможностей интерпретации данных вследствие использования различных естественнонаучных методов, позволяют вновь обратиться к проблеме генезиса мезолитической культуры в бассейне Верхнего и Среднего Дона.
Для поиска гипотетических местных корней мезолита необходимо провести сравнение материалов наиболее поздних стоянок верхнего палеолита и самых ранних мезолитических. Несмотря на их количественное увеличение в последние годы, этого нельзя сказать об их качестве. По-прежнему в рассматриваемом регионе остро стоит проблема «чистых» комплексов с репрезентативными коллекциями и наличием естественнонаучных данных, в первую очередь – радиоуглеродных дат. Культурный слой палеолитических памятников на Дону, как правило, сохраняется лучше вследствие относительно быстрого (по сравнению с мезолитическими памятниками) запечатывания лессовидными суглинками и глубины залегания, что способствует меньшему воздействию современных биогенетических процессов (однако, см. проблему залегания Борщево 1 [20, с. 211] и Борщево 2 [21, с. 217, 221; 22, с. 236–239]). Мезолитические же памятники подвержены целому ряду постдепозиционных нарушений [23, с. 69–82; 24, с. 17–96], особенно в условиях их близкого залегания к современной дневной поверхности. Однако ни в первом, ни во втором случаях, нет абсолютных гарантий избежать различного рода сторонних примесей.
Критериями отнесения памятника к категории надежных/опорных, на наш взгляд, являются:
1) Четкая стратиграфическая позиция культурного слоя, желательно перекрытого мощной пачкой отложений и наличие в разрезе независимых стратиграфических маркеров (пеплы, почвы).
2) В идеале памятник должен быть однослойным или его культурные слои должны разделяться археологически стерильными (мощными) прослойками.
3) Наличие радиоуглеродных дат, их серийность, предпочтение AMS-датировкам.
4) Наличие других данных естественнонаучных методов.
5) Представительная, относительно «гомогенная» коллекция каменного инвентаря.
6) Предпочтение отдается памятникам, раскопанным в последние годы с применением современных методик разборки культурного слоя и фиксации объектов и находок, при этом известные только по подъемному материалу или исследованные несколькими шурфами, не рассматриваются.
Несмотря на внушительное число известных к настоящему времени позднепалеолитических и мезолитических пунктов в регионе, лишь единицы с известной долей условности соответствуют указанным выше критериям. В условиях отсутствия разработанной схемы техно-типологических критериев относительного датирования комплексов рубежа плейстоцена/голоцена, главную роль приобретает наличие радиоуглеродных датировок. «Облик» каменного инвентаря может указывать лишь на широкий (вплоть до 5–7 тыс. л.) временной диапазон, что не является пригодным для данного исследования. Таким образом, к наиболее надежным и относительно «чистым» верхнепалеолитическим комплексам, на наш взгляд, относятся Борщево 1, 2, Самотоевка, Дивногорье 1, 9 (рис. 1). Из множества мезолитических памятников таковых имеется только два – Плаутино 2 и Ситнянская Лука.
Рисунок 1 – Положение стоянок, упомянутых в тексте: 1 – Борщево 1, 2; 2 – Плаутино 2; 3 – Дивногорье 1, 9; 4 – Самотоевка; 5 – Ситнянская Лука
В данной работе мы пользуемся устоявшейся для Русской равнины периодизацией и хронологией памятников рубежа плейстоцена/голоцена [25–27 и др.]. Поздняя пора верхнего палеолита соответствует периоду 20–14 тыс. л.н. с момента начала деградации последнего оледенения до древнего дриаса. Финальный палеолит соотносится со временем 13,5/13,2–10/9,5 тыс. л.н. и соответствует дриасу конца плейстоцена. Нижняя граница его совпадает с исчезновением памятников верхнепалеолитического облика, а верхняя – с появлением самых ранних мезолитических культур. В данном случае понятия «финальный палеолит» и «ранний мезолит» нами рассматриваются как две самостоятельные эпохи.
Позднепалеолитические стоянки
Среди богатого разнообразия разнокультурных и разновременных стоянок Костенковско-Борщевского района поздняя пора верхнего палеолита представлена единичными памятниками, при этом их относительно поздний возраст часто подвергается сомнению [28; 29, с. 626–631]. В последние годы на Верхнем и Среднем Дону было обнаружено и исследовано несколько новых стоянок позднепалеолитического времени. Уже сам факт этого косвенно подтвердил возможность существования таковых и в Костенковско-Борщевском палеолитическом районе.
Самыми ранними памятниками поздней поры верхнего палеолита в рассматриваемом регионе, бесспорно, являются стоянки Борщево 1 и Самотоевка, хронологические рамки существования которых около 16–15 тыс. л.н., что подтверждено серией относительно компактных радиоуглеродных дат (табл. 1, рис. 2). Для кремневого инвентаря Борщево 1 характерно преобладание ретушных резцов, отдельные из которых имеют формы параллелограмма или трапеции (рис. 3). Кроме простых скребков, выявлены также артефакты, изготовленные на ретушированных пластинах, и серия стандартизованных комбинированных орудий в сочетании скребок-косоретушный резец [13]. Выразительны изделия с притупленным краем, из которых следует особо отметить «атипичные» наконечники с боковой выемкой самых разных очертаний (рис. 3: 6–8). Орудий из кости два: обломок изготовленного из кости мамонта острия округлого сечения и просверленный резец лошади. Культурный слой Борщево 1 стратиграфически приурочен к суглинку в основании современной почвы. Фаунистическая коллекция представлена преимущественно костями мамонта, развалы которых отдельные исследователи интерпретируют как остатки жилых сооружений аносовско-мезинского типа [30, с. 118; 22, с. 230–235; 13].
Таблица 1 – Радиоуглеродные даты для стоянок позднего верхнего палеолита и раннего мезолита бассейна Верхнего и Среднего Дона
№ | Стоянка | Лабораторный индекс | Материал | C14-дата, л.н. | Калиброванный возраст 95,4% вероятность, cal BP | Источник |
Верхнепалеолитические стоянки | ||||||
1 | Борщево 1 | ГИН-11197 | Кости мамонта | 15 140 ± 100 | 18 645 – 18 110 | [28] |
2 | Борщево 1 | ГИН-11198 | Кости лошади | 15 200 ± 100 | 18 709 – 18 201 | [28] |
3 | Борщево 1 | ГИН-11199 | Кости мамонта | 15 200 ± 200 | 18 850 – 17 987 | [28] |
4 | Борщево 1 | ГИН-8085 | Кости мамонта | 15 600 ± 70 | 19 002 – 18 698 | [28] |
5 | Борщево 1 | ЛЕ-3727 | Кости мамонта | 17 120 ± 110 | 20 966 – 20 348 | [28] |
6 | Самотоевка | ЛЕ-8566 | Кости крупных млекопитающих | 13 800 ± 350 | 17 692 – 15 760 | [16] |
7 | Самотоевка | ЛЕ-9104 | Кости крупных млекопитающих | 13 820 ± 120 | 17 102 – 16 322 | [13] |
8 | Самотоевка | ГИН-12852 | Кости лошади | 14 730 ± 100 | 18 198 – 17 649 | [16] |
9 | Самотоевка | ЛЕ-8567 | Кости крупных млекопитающих | 15 600 ± 550 | 20 284 – 17 703 | [16] |
10 | Самотоевка | ГИН-12851 | Гумус с древесным углем | 15 900 ± 150 | 19 562 – 18 858 | [16] |
11 | Дивногорье 9, почва бёллинг | ИГАН-4247 | Древесный уголь | 12 060 ± 80 | 14 118 – 13 745 | [31] |
12 | Дивногорье 9, почва бёллинг | ГИН-14547 | Древесный уголь | 11 880 ± 140 | 14 066 – 13 446 | [31] |
13 | Дивногорье 9, почва бёллинг | ГИН-14548 | Древесный уголь | 12 090 ± 100 | 14 223 – 13 728 | [31] |
14 | Дивногорье 9(I) | ЛЕ-8137 | Кости лошади | 11 400 ± 120 | 13 468 – 13 057 | [31] |
15 | Дивногорье 9(I) | ЛЕ-8135 | Кости лошади | 12 980 ± 180 | 16 104 – 15 024 | [31] |
16 | Дивногорье 9(I) | ЛЕ-8136 | Кости лошади | 13 150 ± 200 | 16 323 – 15 188 | [31] |
17 | Дивногорье 9(II) | ЛЕ-8134 | Кости лошади | 13 100 ± 200 | 16 265 – 15 140 | [31] |
18 | Дивногорье 9(II) | AA-90650 | Кость лошади | 13 430 ± 130 | 16 564 – 15 780 | [31] |
19 | Дивногорье 9(II) | ЛЕ-8130 | Кости лошади | 13 370 ± 240 | 16 817 – 15 343 | [31] |
20 | Дивногорье 9(II) | ЛЕ-8131 | Кости лошади | 13 560 ± 240 | 17 110 – 15 696 | [31] |
21 | Дивногорье 9(III) | ЛЕ-8955 | Кости лошади | 12 250 ± 350 | 15 480 – 13 444 | [31] |
22 | Дивногорье 9(III) | ГИН-13192 | Кости лошади | 12 350 ± 200 | 15 140 – 13 806 | [31] |
23 | Дивногорье 9(III) | ЛЕ-9250 | Кости лошади | 13 820 ± 130 | 17 130 – 16 302 | [31] |
24 | Дивногорье 9(III) | AA-90652 | Кость лошади | 13 870 ± 140 | 17 234 – 16 330 | [31] |
25 | Дивногорье 9(IV) | ЛЕ-8956 | Кости лошади | 13 200 ± 300 | 16 843 – 14 964 | [31] |
26 | Дивногорье 9(IV) | ГИН-14540 | Кости лошади | 13 560 ± 320 | 17 350 – 15 450 | [31] |
27 | Дивногорье 9(IV) | AA-90653 | Кость лошади | 13 830 ± 150 | 17 201 – 16 270 | [31] |
28 | Дивногорье 9(V) | ГИН-14541 | Кости лошади | 12 600 ± 250 | 15 716 – 14 038 | [31] |
29 | Дивногорье 9(V) | ЛЕ-8957 | Кости лошади | 13 100 ± 500 | 17 187 – 14 077 | [31] |
30 | Дивногорье 9(V) | ЛЕ-8932 | Кости лошади | 13 270 ± 630 | 17 754 – 14 045 | [31] |
31 | Дивногорье 9(V) | AA-90654 | Кость лошади | 13 900 ± 140 | 17 296 – 16 371 | [31] |
32 | Дивногорье 9(VI) | ГИН-14543 | Кости лошади | 12 140 ± 300 | 15 173 – 13 436 | [31] |
33 | Дивногорье 9(VIa) | ГИН-14544 | Кости лошади | 12 540 ± 470 | 16 218 – 13 544 | [31] |
34 | Дивногорье 9(VI) | ЛЕ-9620 | Кости лошади | 13 100 ± 600 | 17 456 – 13 925 | [31] |
35 | Дивногорье 9(VI) | ЛЕ-9619 | Кости лошади | 13 800 ± 150 | 17 158 – 16 240 | [31] |
36 | Дивногорье 9(VI) | ЛЕ-8958 | Кости лошади | 13 920 ± 175 | 17 410 – 16 339 | [31] |
37 | Дивногорье 9(VI) | ЛЕ-9102 | Кости лошади | 13 940 ± 180 | 17 443 – 16 354 | [31] |
38 | Дивногорье 9(VI) | ЛЕ-9618 | Кости лошади | 14 080 ± 190 | 17 635 – 16 511 | [31] |
39 | Дивногорье 9(VI) | AA-90655 | Кость лошади | 14 430 ± 160 | 17 969 – 17 141 | [31] |
40 | Борщево 2(I) | ГИН-88 | Гумус | 12 300 ± 100 | 14 847 – 13 964 | [28] |
41 | Борщево 2, гиттия | ГИН-3261 | Гумус | 12 550 ± 200 | 15 463 – 14 062 | [28] |
42 | Борщево 2, раск. 1925 | ГИН-8084 | Обожженные кости лошади | 10 400 ± 200 | 12 713 – 11 601 | [28] |
43 | Борщево 2, раск. 1925 | ГИН-8415 | Обожженные кости лошади | 10 900 ± 300 | 13 421 – 12 051 | [28] |
44 | Борщево 2(I) | ЛУ-742 | Древесный уголь | 13 210 ± 270 | 16 709 – 15 091 | [28] |
45 | Борщево 2(I) | MO-636 | Гумус | 11 760 ± 240 | 14 202 – 13 090 | [28] |
46 | Борщево 2(I) | ЛЕ-4865 | Гумус | 9 520 ± 300 | 11 840 – 10 149 | [28] |
47 | Борщево 2(I) | ЛЕ-4866 | Гумус | 9 330 ± 390 | 11 774 – 9 542 | [28] |
48 | Борщево 2(I) | ЛЕ-4867 | Гумус | 14 030 ± 280 | 17 793 – 16 253 | [28] |
49 | Борщево 2(I) | ЛЕ-4837 | Древесный уголь | 13 480 ± 720 | 18 221 – 14 106 | [28] |
50 | Борщево 2(III) | ЛЕ-4834 | Древесный уголь | 13 540 ± 300 | 17 251 – 15 451 | [28] |
51 | Дивногорье 1 | ЛЕ-8649 | Кости лошади | 12 050 ± 170 | 14 562 – 13 478 | [13] |
52 | Дивногорье 1 | ЛЕ-8648 | Кости лошади | 13 380 ± 220 | 16 790 – 15 411 | [13] |
53 | Дивногорье 1 | АА-90651 | Кость лошади | 13 430 ± 130 | 16 564 – 15 780 | [13] |
Стоянки раннего мезолита | ||||||
1 | Плаутино 2, слой раннего мезолита | SPb-309 | Зуб лошади (?) | 9 950 ± 100 | 11 817 – 11 198 | [9] |
2 | Ситнянская Лука, погребенная почва над культурным слоем | ГИН-7152 | Гумус | 8 100 ± 60 | 9 256 – 8 931 | [7] |
3 | Ситнянская Лука, погребенная почва над культурным слоем | ГИН-7153 | Гумус | 8 250 ± 100 | 9 462 – 9 013 | [7] |
4 | Ситнянская Лука, погребенная почва под культурным слоем | ГИН-7157 | Гумус | 9 250 ± 200 | 11 129 – 10 113 | [7] |
Примечание. Калибровка выполнена в программе OxCal 4.2 (IntCal 13).
Рисунок 2 – Распределение калиброванных радиоуглеродных дат для стоянок поздней поры верхнего палеолита и раннего мезолита бассейна Верхнего и Среднего Дона (числа внизу графика отражают количество радиоуглеродных дат для каждого памятника (см. табл. 1)
Рисунок 3 – Каменный инвентарь стоянки Борщево 1. 1–5 – микропластинки с притупленным краем; 6–10 «атипичные» наконечники с боковой выемкой; 11 – острие с притупленным краем («шательперрон»); 12–22 – резцы; 23–27 – скребки на пластинах; 28–30 – нуклевидные резцы (рисунки по [30])
Самотоевка и Борщево 1, несмотря на близость радиоуглеродных датировок, заметно различаются. Первую из них можно предположительно интерпретировать как долговременное поселение с округлым в плане жилищем с очагом в центре. Расположенные по окружности ямы сближают его с аносовско-мезинскими, но при этом оно значительно уступает им в размерах и сооружено без использования костей мамонта. Некоторое сходство прослеживается с жилыми постройками стоянок степной зоны, в частности, с Осокоровкой [13]. В коллекции костей преобладает дикая лошадь, но также имеются лось, бобр, заяц и тур (табл. 2). Сравнение каменного инвентаря Самотоевки и Борщево 1 не дает оснований говорить об их сходстве. Для индустрии первой характерно преобладание средних и длинных (до 9 см) пластинчатых заготовок, использование для вторичной обработки мелкой нерегулярной ретуши, широкое применение техники резцового скола (рис. 4). Из орудий ведущее место занимают резцы, при этом следует отметить «многофасеточность» большинства из них, а также плоские и нуклевидные варианты. Из скребков преобладают простые формы, но имеется и выразительная серия миниатюрных округлых с оформлением рабочего лезвия по всей окружности или части ее [13]. В коллекции также имеется небольшое количество изделий с притупленным краем, из которых особенно интересны геометрические микролиты. В то же время отсутствие ретушных резцов и минимальное использование крутой ретуши является необычным для этого времени. Некоторое сходство каменного инвентаря можно усмотреть в материалах замятнинской культуры [13]. В первую очередь, это нуклеусы для снятия микропластинок и многофасеточные резцы, общим также является хорошо представленный прием вторичной обработки орудий с помощью мелкой нерегулярной, реже приостряющей ретуши. Иные технологические особенности и категории орудий значительно разнятся, при этом кремневые комплексы стоянок замятнинской культуры также неоднородны и имеют заметные различия. При этом необходимо обратить внимание на наличие в Борщево 1 и Самотоевке схожих костяных острий, однако такого типа «простые» формы их выявлены на многих разновременных стоянках верхнего палеолита [13]. И.В. Федюнин склонен соотносить «финальнопалеолитические материалы» Самотоевки с быковской культурой [19, с. 333], которая, по мнению Н.Б. Ахметгалеевой, сочетает в себе черты технологий европейского мадлена и финального палеолита – мезолита [32, с. 183].
Таблица 2 – Состав фаунистических остатков в стоянках поздней поры верхнего палеолита и раннего мезолита бассейна Верхнего и Среднего Дона
| Поздний верхний палеолит | Ранний мезолит | |||||
Борщево 1 | Самотоевка | Дивногорье 9 | Дивногорье 1 | Борщево 2(I) | Плаутино 2 | С. Лука | |
Мамонт (Mammuthus primigenius) | ˃20 |
|
|
|
|
|
|
Шерстистый носорог (Coelodonta antiquitatis) | 1 |
|
|
|
|
|
|
Лошадь (Equus ferus) | 4–5 | 172/4 | 7887/˃81 | 789/8 | 8 | + | 12/2 |
Северный олень (Rangifer tarandus) |
|
|
| 24/2 | 4 |
|
|
Заяц (Lepus sp.) |
| 6/2 |
|
| 2 |
| 8/1 |
Волк (Canis lupus) | 1 |
|
|
| 2 |
|
|
Бобр (Castor fiber) |
| 6/1 |
|
|
|
| 76/2 |
Лось (Alces alces) |
| 10/3 |
|
| 1 | 5/1 |
|
Тур (Bos primigenius) |
| 1/1 |
|
| 1 |
|
|
Песец (Alopex lagopus) |
|
| 1/1 |
|
|
|
|
Росомаха (Gulo gulo) |
|
| 1/1 |
|
|
|
|
Лисица (Vulpes vulpes) |
|
|
|
| 1 |
|
|
Пещерная гиена (Crocuta crocuta spelaea) |
|
|
|
| 1 |
|
|
Благородный олень (Cervus elaphus) | 1 |
|
|
|
| 2/1 |
|
Щука (Esox lucius) |
|
|
|
|
| 11/2 |
|
Рысь (Lynx lynx) | 1 |
|
|
|
|
|
|
Куница каменная (Martes foina) | 1 |
|
|
|
|
|
|
Доминантный вид | Мамонт | Лошадь | Лошадь | Лошадь | Лошадь | Лошадь (?) | Бобр |
Источник | [20] | [12] | [33] | [33] | [21] | [9] | Неопубл. |
Примечание. Косая линия разделяет количество костей и минимальное число особей; «+» – присутствует в коллекции без точных подсчетов. Для Борщево 1 приводятся данные только по минимальному количеству особей животных. При этом сведения по количеству костей и особей сильно занижены. В то же время для Дивногорья 9 подсчеты костей и минимального количества особей даются суммарно по всем слоям, а для Борщево 2(I) – только по минимальному количеству особей животных.
Рисунок 4 – Каменный инвентарь стоянки Самотоевка. 1–3, 7–9 – изделия с притупленным краем; 4–6 – треугольники; 10, 11,15–20 – скребки; 12 – проколка; 13, 14 – комбинированные орудия; 21–23 – срединные резцы; 24–28 – многофасеточные резцы (рисунки по [16])
Несколько более позднюю группу палеолитических стоянок в рассматриваемом регионе составляют Дивногорские памятники и, возможно, верхний слой Борщево 2 (I) (рис. 2). Возраст первых при этом датируется временем в 14,5–13 тыс. л.н., а второй – ранним дриасом или началом интервала бёллинг [34, с. 18; 13]. Это время характеризуется наличием кратковременных стоянок без следов жилых конструкций. Дивногорские стоянки отличаются специфической формой хозяйства, в основе которой лежит массовая охота (?) на дикую лошадь. При этом представляет интерес факт наличия признаков взаимосвязи памятников с различной функциональной специализацией: место забоя – место разделки («kill site» – «butchering site»), аналогию которой в пределах Восточной Европы можно наблюдать лишь в Амвросиевке [3; 13]. Каменная индустрия Дивногорья 1, 9 и Борщево 2 имеет много общих черт. Первичное расщепление пластинчатое, в орудийном наборе преобладают простых форм скребки и ретушные резцы [33, с. 155; 35, с. 118–119]. Также являются показательными орудия с притупленным краем, косоусеченные острия и тронкированные пластины (рис. 5). Необходимо указать на наличие в разрезе Дивногорья 9 над культуросодержащими слоями двух уровней почвообразования, датируемых бёллингом и аллерёдом [31; 36; 37; 13]. Важной составляющей каменной индустрии Дивногорья 1 являются некремневые изделия, представленные разного рода лощилами и терочниками, что, возможно, и указывает на функциональную специализацию стоянки. Для кремневой коллекции Борщево 2 (I) характерны единичные миниатюрные округлые скребки (рис. 6). Материальные комплексы двух нижних и верхнего культурных слоев Борщево 2 демонстрируют типологическую близость, но при этом в фаунистической коллекции преобладает мамонт [34; 13]. Остается открытым вопрос и об условиях залегания на стоянке культурных слоев, вследствие чего бесспорная атрибуция второго и третьего из них на сегодняшний день затруднена.
Рисунок 5 – Каменный инвентарь Дивногорских памятников. 1–12 – Дивногорье 9; 13–29 – Дивногорье 1. 1 – унифасиальное орудие; 2, 3, 8–10 – тронкированные пластины; 4, 13–18, 19 – изделия с притупленным краем; 5, 20, 22–27 – скребки; 6 – осколок с ретушью; 7, 12, 28, 29 – ретушные резцы; 11 – микропластина с ретушью; 21, 22 – косоусеченные острия; 30 – нуклеус (рисунки по [33])
Рисунок 6 – Каменный инвентарь верхнего слоя стоянки Борщево 2. 1–9 – изделия с притупленным краем; 10–16 – резцы; 17–26 – скребки; 27–30 – нуклеусы (рисунки по [38])
Каменные изделия позднепалеолитических памятников Верхнего и Среднего Дона достаточно универсальны: основная часть из них представлена ретушными резцами, косоусеченными остриями, скребками простых форм и изделиями с притупленным краем, что является типичным орудийным набором для памятников восточного эпиграветта. Аналогичный ассортимент характерен и для Борщево 1, 2, Дивногорья 1, 9, а также для ряда стоянок, не имеющих данных радиоуглеродного датирования [13]. В несколько обособленном положении находится стоянка Самотоевка, кремневая индустрия которой представлена многофасеточными и плоскими резцами, округлыми скребками и небольшим количеством микролитов геометрических форм. При этом почти отсутствуют ретушные резцы и пластинки с притупленным краем. Наличие в кремневых комплексах Самотоевки многофасеточных резцов сближает ее с кремневыми комплексами некоторых памятников замятнинской культуры в Костенках, хронологическая ниша существования которой приурочена к максимуму Валдайского оледенения [22], но в то же время остальной ассортимент кремневых изделий, коллекция фауны и конструкции жилищ существенно разнятся.
Стоянки раннего мезолита
Стоянка Плаутино 2 исследовалась в 2002–2012 гг. на площади около 500 м² вначале А.В. Сурковым, а затем И.В. Федюниным [9]. Были обнаружены материалы раннего и позднего мезолита, неолита, энеолита и бронзового века. Вопрос о гомогенности коллекции раннего мезолита остается открытым, что отражалось и в изменении интерпретаций материала автором работ в течение раскопок [8; 9; 39]. Данные палинологии из разреза памятника скорее осложнили проблему относительной датировки: две диаграммы одного автора (сравн. [40] и [41]) определили возраст вмещающих раннемезолитических культурный слой отложений сначала аллерёдом, затем – пребореалом [9]. Тем не менее, правомерность отнесения И.В. Федюниным части материала к раннему мезолиту сомнений не вызывает, что подтверждается одной радиоуглеродной датой около 10 тыс. л.н.
Коллекция каменного инвентаря раннемезолитического комплекса Плаутино 2 насчитывает около 5,5 тыс. предметов (рис. 7). Согласно автору раскопок, техника первичной обработки «…может быть названа отщепово-пластинчатой с высокой степенью использования пластин в качестве заготовок» [9, с. 47]. Орудийный набор представлен различными типами резцов и скребков, усеченных пластин, острий, тесел, среди которых преобладают предметы с симметричной трапециевидной формой. Единичны изделия с притупленным краем – острия и пластинки. Наиболее выразительна серия геометрических микролитов, среди которых преобладают симметричные высокие и средневысокие трапеции.
Рисунок 7 – Каменный инвентарь стоянки Плаутино 2. 1–29, 36 – геометрические микролиты; 30–35, 39 – острия; 37, 38 – рубящие орудия (рисунки по [9])
Стоянка Ситнянская Лука была обнаружена и исследовалась одним из авторов настоящей статьи [42] на площади около 400 м². Комплекс раннего мезолита насчитывает около 600 предметов, среди которых присутствуют скребки на пластинах, боковые и угловые резцы, усеченные пластины, единичные скобели и сверла (рис. 8). Также в коллекции присутствуют два топора с перехватом и одна низкая трапеция. Производство отщепов в качестве заготовок играло если не ведущую, то значительную роль для обитателей стоянки [7]. В культурном слое выявлено всего 102 единицы костных остатков, принадлежащих малому количеству особей, что предполагает ее кратковременный характер. Судя по радиоуглеродным датам, полученным для залегающих выше и ниже культурного слоя погребенных почв (табл. 1), возраст стоянки укладывается в промежуток времени 9–9,5 тыс. л.н.
Если принадлежность Плаутино 2 к зимовниковской мезолитической культуре (или даже ее сабовскому варианту) не вызывает сомнений [8–10; 39], то материалов Ситнянской Луки на данный момент недостаточно для однозначной атрибуции [7].
Рисунок 8 – Каменный инвентарь стоянки Ситнянская Лука. 1, 6 – скребки; 2, 3, 7, 9, 11, 17 – резцы различных типов; 5 – скобель; 8, 10, 12–16, 18 – пластины и их фрагменты; 19 – топор с перехватом (рисунки по [7])
Обсуждение
Развитие культурных процессов в бассейне Дона на рубеже плейстоцена-голоцена происходит на фоне глобальных изменений природной обстановки, реконструкция которой для этого времени стала возможной благодаря обширным междисциплинарным исследованиям. Ключевую роль в жизни и быте древнего населения играла адаптация к резко меняющимся климатическим условиям, повлекшим за собой кардинальные изменения в ландшафте и фаунистическом наборе. Исчезновение мамонтового фаунистического комплекса, который являлся основой жизнеобеспечения населения ледниковой эпохи, в значительной мере повлияло на хозяйственный уклад племен, что непосредственно выразилось в облике материальной культуры [43].
К настоящему времени не существует свидетельств того, что мамонт на Среднем Дону продолжает обитать позже 15 тыс. л.н., что хорошо согласуется с данными для других регионов Восточной Европы [26; 44; 45]. Среди всей совокупности прямых радиоуглеродных дат по костям мамонта в Костенках только две из них для культурного слоя Ia Костенок 11 имеют возраст моложе 15 тыс. л.н. [28]. Однако валидность этих дат можно поставить под сомнение, поскольку они получены в период становления радиоуглеродного метода в 1970-е годы, а новая серия АМС-дат для этого же культурного слоя укладывается в пределы 20,2–21 тыс. л.н. [46].
Анализ видового состава животных стоянок рубежа плейстоцена/голоцена на Верхнем и Среднем Дону (табл. 2) позволяет говорить лишь о единственном случае наличия мамонтовой фауны, выявленной на стоянке Борщево 1 и представленной собственно мамонтом, а также шерстистым носорогом. В то же время в материалах относительно одновременной ей Самотоевки, расположенной несколько южнее, мы уже наблюдаем наличие практически голоценового фаунистического комплекса при доминировании лошади. Этот вид является преобладающим еще на четырех, но уже более молодых, стоянках (Дивногорье 9, Дивногорье 1, Борщево 2(I), Плаутино 2). И только по остеологической коллекции Ситнянской Луки статистические данные свидетельствуют в пользу преобладания костей бобра, что, возможно, может объясняться, с одной стороны, охотничьей специализацией исследованной стоянки, а с другой, необъективностью статистической выборки костей ввиду их малочисленности.
Краткий обзор позднепалеолитических индустрий свидетельствует о существовании в рассматриваемом регионе как минимум двух традиций, ориентированных на получение средних и крупных пластинчатых заготовок. Представленность в коллекции каменного инвентаря ретушных резцов, скребков простых форм, косоусеченных острий, разного рода орудий с притупленным краем, включая наконечники с боковой выемкой, дает основание относить стоянки Борщево 1 и 2, Дивногорье 1 и 9 к кругу восточноэпиграветских памятников. Судя по всему, особое место занимает кремневая коллекция Самотоевки, типичными для которой являются многофасеточные и плоские резцы, округлые скребки и единичные геометрические микролиты, но в то же время нет ретушных резцов и пластинок с притупленным краем.
Для раннемезолитической кремневой индустрии характерно использование одно- и двуплощадочных нуклеусов, предназначенных также для снятия пластин и отщепов при преобладании отщеповой (или «отщепово-пластинчатой») техники. Однако в технологическом плане данные комплексы никак не связаны с локальными верхнепалеолитическими культурами с развитой призматической техникой первичного расщепления, направленной на получение узких средних и длинных пластин. Единственным общим приемом в верхнепалеолитических и мезолитических индустриях является достаточно широко распространенная техника притупления края. Единичные геометрические микролиты, присутствующие в палеолитических коллекциях, едва ли могут служить основанием для однозначного признания местных палеолитических культур генетической подосновой мезолита. Остальное сходство между местными палеолитическими и мезолитическими индустриями прослеживается в широко распространенных категориях изделий, таких как резцы, скребки, долотовидные и др., и едва ли может являться свидетельством «генетического» родства.
Отдельную проблему составляет хронологическая лакуна между поздним палеолитом и мезолитом. На рис. 2 показано графическое распределение всех имеющихся дат для стоянок рубежа плейстоцена/голоцена на рассматриваемой территории. Даже если принимать во внимание наиболее молодые из них для стоянок с большим разбросом данных, очевидно, что между палеолитическими и мезолитическими памятниками существует значительный хронологический промежуток, который приходится на время существования финальнопалеолитических культур. Присутствие таковых в регионе не подтверждается имеющимися коллекциями, хотя единичные свидетельства продолжения свидерских и аренсбургских традиций изготовления наконечников отмечены на более поздних мезолитических стоянках [11].
На территориях, прилегающих к Подонью, наблюдается несколько другая ситуация. Кремневая индустрия финального палеолита юга Русской равнины имеет характерный верхнепалеолитический облик, и только к началу геологической современности прослеживается тенденция к микролитизации, которая проявлялась в распространении геометрических форм в индустриях типа «рогаликской» [47]. Зимовниковская раннемезолитическая культура имеет много общих техно-типологических характеристик с локальным финальным палеолитом [48], хотя проблема ее происхождения остается открытой [47]. На территории Волго-Окского бассейна в материалах мезолитических стоянок на основании деления пластинчатых заготовок на узкие и широкие (костенковские пластины) прослеживаются технологические связи с местной костенковско-авдеевской и пришлыми финальнопалеолитическими культурами с черешковыми наконечниками [49]. Раннеголоценовые стоянки в устье Камы со специфической индустрией, выраженной в сочетании пластинчатой и отщеповой техник первичного расщепления и наличием своеобразных рубящих орудий и крупных микролитов-трапеций, также имеют корни в местных финальнопалеолитических индустриях [50].
Вопрос о генезисе мезолита на Верхнем и Среднем Дону на данный момент остается нерешенным. До момента обнаружения стоянок финального палеолита в этом регионе наиболее предпочтительной является миграционная модель, несмотря на наличие ряда отдаленных техно-типологических аналогий в инвентаре стоянок позднего верхнего палеолита и раннего мезолита.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научных проектов № 18–49–480007, № 18–49–360007, № 18–39–20009 и частично в рамках выполнения программы ФНИ ГАН по теме государственной работы № 0184–2018–0012.
Об авторах
Александр Николаевич Бессуднов
Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского
Автор, ответственный за переписку.
Email: bessudnov_an@mail.ru
кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории
Россия, ЛипецкАлександр Александрович Бессуднов
Институт истории материальной культуры РАН
Email: bessudnov_a22@mail.ru
кандидат исторических наук, научный сотрудник отдела палеолита
Россия, Санкт-ПетербургСписок литературы
- Синюк А.Т. Население бассейна Дона в эпоху неолита. Воронеж: Изд-во Воронежского университета, 1986. 180 с.
- Ефименко П.П. Первобытное общество. Изд. 3. Киев: АН УССР, 1953. 663 с.
- Борисковский П.И. Палеолит Украины // Материалы и исследования по археологии СССР. 1953. № 40. С. 1–464.
- Формозов А.А. Этнокультурные области на территории Европейской части СССР в каменном веке. М.: АН СССР, 1959. 124 с.
- Замятнин С.Н. Очерки по палеолиту. М.-Л.: АН СССР, 1961. 176 с.
- Левенок В.П. Мезолит среднерусского Днепро-Донского междуречья и его роль в сложении местной неолитической культуры // Материалы и исследования по археологии СССР. 1966. № 126. С. 88–98.
- Бессуднов А.Н. Мезолитические памятники лесостепного Подонья: дис. … канд. ист. наук. Воронеж, 1997. 22 с.
- Федюнин И.В. Мезолитические памятники Среднего Дона. Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2006. 144 с.
- Федюнин И.В. Стоянка Плаутино 2 и ее место в мезолите бассейна Дона. Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2012. 136 с.
- Федюнин И.В. Мезолит лесостепного Подонья в ретроспективе и перспективе исследований // Археология, этнография и антропология Евразии. 2015. Т. 43, № 1. С. 16–27.
- Бессуднов А.Н. К вопросу о свидерских и аренсбургских традициях в охотничьем вооружении населения каменного века лесостепного Подонья // Елец и его окрестности: тезисы науч. конф. / отв. ред. А.Т. Синюк. Елец: Ориус, 1991. С. 83–85.
- Бессуднов А.А. Памятники поздней поры верхнего палеолита бассейна Верхнего и Среднего Дона: дис. … канд. ист. наук. СПб., 2011. 31 с.
- Бессуднов А.А. Палеолитические памятники конца плейстоцена в бассейне Верхнего и Среднего Дона // Проблемы заселения Северо-Запада Восточной Европы в верхнем и финальном палеолите (культурно-исторические процессы) / отв. ред. Г.В. Синицына. СПб.: ЭлекСис, 2013. С. 127–151.
- Бессуднов А.А., Бессуднов А.Н. Новые верхнепалеолитические памятники у хутора Дивногорье на Среднем Дону // Российская археология. 2010. № 2. С. 136–145.
- Бессуднов А.Н., Бессуднов А.А. Позднепалеолитическая стоянка Замятино 14 на Верхнем Дону // Палеолит и мезолит Восточной Европы: сб. ст. в честь 60-летия Х.А. Амирханова / отв. ред. К.Н. Гаврилов. М.: Таус, 2011. С. 356–367.
- Бессуднов А.Н., Бессуднов А.А. Позднепалеолитическая стоянка Самотоевка в бассейне Черной Калитвы // Проблеми дослідження пам'яток археології Східної України: матеріали III Луганської міжнародної історико-археологічної конференції, присвяченої пам'яті С.Н. Братченка / отв. ред. В.В. Отрощенко. Луганськ: Элтон-2, 2012. С. 37–45.
- Федюнин И.В. Палеолит и мезолит Южного Подонья. Воронеж: ВГПУ, 2010. 204 с.
- Федюнин И.В. Памятники эпохи мезолита в междуречье Дона и Волги. Воронеж: ВГПУ, 2016. 176 с.
- Федюнин И.В. Поздневалдайские индустрии Костенковско-Борщевского района и проблема изучения финального палеолита лесостепного Подонья // Stratum plus. 2018. № 1. С. 317–336.
- Рогачев А.Н., Кудряшов В.Е. Борщево 1 // Палеолит Костенковско-Борщевского района на Дону. 1879–1979. Некоторые итоги полевых исследований / под ред. Н.Д. Праслова и А.Н. Рогачева. Л.: Наука, 1982. С. 211–216.
- Борисковский П.И., Дмитриева Т.Н. Борщево 2 // Палеолит Костенковско-Борщевского района на Дону. 1879–1979. Некоторые итоги полевых исследований / под ред. Н.Д. Праслова и А.Н. Рогачева. Л.: Наука, 1982. С. 217–222.
- Аникович М.В., Попов В.В., Платонова Н.И. Палеолит Костенковско-Борщевского района в контексте верхнего палеолита Европы. СПб.: Нестор-История, 2008. 304 с.
- Сорокин А.Н. Мезолитоведение Поочья. М.: ИА РАН, 2008. 327 с.
- Сорокин А.Н. Очерки источниковедения каменного века. М.: ИА РАН, 2016. 248 с.
- Васильев С.А., Абрамова З.А., Григорьева Г.В., Лисицын С.Н., Синицына Г.В. Поздний палеолит Северной Евразии: палеоэкология и структура поселений. СПб.: ИИМК РАН, 2005. 107 с.
- Маркова А.К., ван Кольфсхотен Т., Бохнкке Ш., Косинцев П.А., Мол И., Пузаченко А.Ю., Симакова А.Н., Смирнов Н.Г., Верпоорте А., Головачев И.Б. Эволюция экосистем Европы при переходе от плейстоцена к голоцену (24–8 тыс. л.н.). М.: Товарищество научных изданий КМК, 2008. 556 с.
- Сорокин Л.Н., Ошибкина С.В., Трусов А.В. На переломе эпох. М.: ИА РАН, 2009. 388 с.
- Радиоуглеродная хронология палеолита Восточной Европы и Северной Азии. Проблемы и перспективы / под ред. А.А. Синицына, Н.Д. Праслова. СПб.: Академпринт, 1997. 143 с.
- Бессуднов А.А. Проблема наличия геологических и культурных отложений поздней поры верхнего палеолита в Костенках // Пути эволюционной географии: мат-лы всерос. науч. конф., посв. памяти профессора А.А. Величко (Москва, 23–25 ноября 2016 г.). М.: Институт географии РАН, 2016. С. 626–631.
- Векилова Е.А. Палеолитическая стоянка Боршево I // Материалы и исследования по археологии СССР. 1953. № 39. С. 111–136.
- Бессуднов А.Н., Сычева С.А., Бессуднов А.А., Лаврушин Ю.А., Чепалыга А.Л., Садчикова Т.А. Геоархеологические памятники Дивногорье 9 и 1 [палеопочвы и отложения МИС 2] // Путеводитель научных экскурсий XII междунар. симпозиума и полевого семинара по палеопочвоведению «Палеопочвы, педоседименты и рельеф как архивы природной среды» (10–15 августа, 2013, Курская и Воронежская области, Россия). М.: Изд-во ИГ РАН, 2013. С. 94–103.
- Ахметгалеева Н.Б. Каменный век Посеймья: верхнепалеолитическая стоянка Быки-7. Курск: Мечта, 2015. 254 с.
- Бессуднов А.Н., Бессуднов А.А., Бурова Н.Д., Лаврушин Ю.А., Спиридонова Е.А. Некоторые результаты исследований палеолитических памятников у хутора Дивногорье на Среднем Дону (2007–2011 гг.) // Краткие сообщения Института археологии. 2012. № 227. С. 144–154.
- Цыганов Ю.Ю. Стоянка Борщево 2 и ее место в палеолите Восточной Европы: автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 1995. 20 с.
- Бессуднов А.Н., Бессуднов А.А., Родионов А.М. Технико-типологическая характеристика каменного инвентаря палеолитических памятников в Дивногорье // V (XXI) всерос. археологический съезд. Барнаул: АлтГУ, 2017. С. 118–119.
- Sycheva S.A., Bessudnov A.N., Chepalyga A.L., Sadchikova T.A., Sedov S.N., Simakova A.N., Bessudnov A.A. Divnogorie pedolithocomplex of the Russian Plain: Latest Pleistocene deposits and environments based on study of the Divnogorie 9 geoarchaeological site [middle reaches of the Don River] // Quaternary International. 2016. Vol. 418. P. 49–60. doi: 10.1016/j.quaint.2015.11.006.
- Сычева С.А., Бессуднов А.Н., Бессуднов А.А., Седов С.Н., Симакова А.Н. Дивногорский педолитокомплекс как отражение экстремальных условий почвообразования в финальном плейстоцене // Известия РАН. Серия географическая. 2017. № 5. С. 95–118. doi: 10.7868/S0373244417050085.
- Ефименко П.П., Борисковский П.И. Палеолитическая стоянка Боршево II // Материалы и исследования по археологии СССР. 1953. № 39. С. 56–110.
- Федюнин И.В. Плаутино 2: вопросы хроностратиграфии // Археологические вести. 2012. Вып. 18. С. 25–42.
- Трегуб Т.Ф., Сурков А.В., Федюнин И.В. Эволюция природной среды и материальной культуры Среднего Похоперья в финальном палеолите – неолите // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Геология. 2005. № 2. С. 24–30.
- Трегуб Т.Ф. Результаты палинологического исследования стоянки Плаутино 2 // Федюнин И.В. Стоянка Плаутино 2 и ее место в мезолите бассейна Дона. Воронеж: Воронежский государственный педагогический университет, 2012. С. 123–128.
- Бессуднов А.Н. Отчет за 1990 год об охранных раскопках стоянки Ситнянская Лука I у с. Яблоново Валуйского района Белгородской области // Архив ИА РАН. 1991.
- Kitagawa K., Julien M.-A., Krotova O., Bessudnov A.A., Sablin M.V., Kiosak D., Leonova N., Plohenko B., Patou-Mathis M. Glacial and post-glacial adaptations of hunter-gatherers: Investigating the late Upper Paleolithic and Mesolithic subsistence strategies in the southern steppe of Eastern Europe // Quaternary International. 2018. № 465. P. 192–209. doi: 10.1016/j.quaint.2017.01.005.
- Stuart A.J., Kosintsev P.A., Higham T.F.G., Lister A.M. Pleistocene to Holocene extinction dynamics in giant deer and woolly mammoth // Nature. 2014. Vol. 431. P. 684–689. doi: 10.1038/nature02890.
- Лисицын С.Н. Климатическая перестройка на рубеже палеолита и мезолита как фактор культурогенеза на северо-западе Восточной Европы // Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям / отв. ред. А.П. Деревянко, А.Б. Куделин, В.А. Тишков. М.: РОССПЭН, 2009. С. 52–62.
- Дудин А.Е. Раскопки палеолитической стоянки Костенки 11 [Аносовка 2] // Археологические исследования в Центральном Черноземье 2016 / под ред. Н.Е. Чалых. Липецк-Воронеж: Новый взгляд, 2017. С. 51–53.
- Горелик А.Ф. Памятники Рогаликско-Передельского района. Проблемы финального палеолита Юго-Восточной Украины. Киев-Луганск: РИО ЛИВД, 2001. 365 с.
- Манько В.А. Проблемы зимовниковской культуры в Северо-Восточном Приазовье // Древние культуры Восточной Украины / отв. ред. В.А. Манько. Луганск: Восточноукраинский университет, 1996. С. 10–31.
- Амирханов Х.А. Восточнограветтийские технологические элементы в материалах поздней поры верхнего палеолита Поочья // Верхний палеолит – верхний плейстоцен: динамика природных событий и периодизация археологических культур. СПб.: Научный мир, 2002. С. 83–86.
- Галимова М.Ш. Памятники позднего палеолита и мезолита в устье Камы. М.-Казань: Янус-К, 2001. 272 с.
Дополнительные файлы